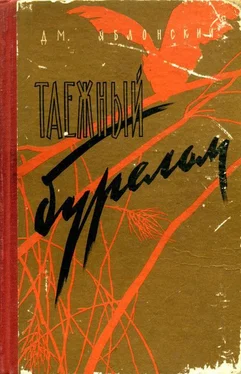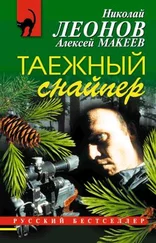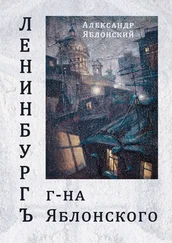По плану, разработанному Шадриным и одобренному Дальбюро, предполагалось главные удары нанести: на севере — дружинами крестьянского ополчения Сафрона Ожогина, на юге — отрядами Коренного и Тихона Ожогина. Конники во взаимодействии с пулеметными тачанками должны были врезаться в центр и ударом на Лутковку прорваться к разъезду Краевскому.
Командующий несколько раз перечитал боевой приказ, набросил на плечи шинель, пошел в конюшню. Там задавали вечерний корм, чистили лошадей. Белоснежный аргамак, отбитый в одном из боев, повернул к Шадрину сухую голову, заржал.
Дневальный бросил в ясли сена. Аргамак подсунул морду под сено, пофыркивая, вывернул охапку на пол. Переступил ногами и, захватив несколько стебельков клевера, нехотя захрустел.
— Шайтан, а не конь, — заворчал дневальный. — Нет хуже этих чистых кровей — бегунков. Наш крестьянский конь ни одной сенинки не уронит, а этот сорит и сорит.
Боец погрозил жеребцу нагайкой.
— Балуй, дьявол! Ошарашу раз, не возрадуешься. Ишь, волю взял.
Скрутили цигарки, закурили. Аргамак ударил копытом, похрапывая и выгибая шею, косил на людей наливающимся кровью глазом.
— Сердится, — забубнил дневальный, — не любит дыма. Княжий жеребец, чистоплюй. В реке воды не пьет, с ключа возим; отборное, луговое сено подавай. Известно, господских кровей, благороден, дьявол. Волочаевскую кобылу никак не хотел принять, храпит, зубы скалит.
— Принял?
— Как же такую красавицу не принять? Она, товарищ, командующий, хоть и крестьянская кровь, а самородковая, таланная. Ох, и потомство будет: крепкое, выносливое!
Дневальный от радости чуть не прыгал.
— Ишь ты, — удивился Шадрин.
— А как же не радоваться? Крестьянину лошадь дороже жизни. Такую запряжешь — картина! Шея лебединая, идет — копытом землю не тронет, заснешь — в седле не разбудит.
— Вот кончим войну, сдам Араба для воспроизводства табунов. Как думаешь?
Дневальный долго с недоумением смотрел на командующего.
— Не пойму, — наконец отозвался он. — Такого коня — и продать?..
— Я не сказал: продам, сказал — сдам.
— Не говоря худого слова, не очумел ли? Что ж, у тебя куры золотые яйца несут?
— При новой жизни все общественное будет. На кой ляд мне такой жеребец?
Дневальный недоверчиво хохотнул.
Шадрин пошлепал коня по крупу.
— Пойдем, Араб, разгоним кровь, промнемся.
Но не успел командующий взять стремя, как к конюшне крупной рысью подъехал Коваль. Лицо у него было мрачноватым.
— Андрей? — весело приветствовал его Шадрин. — Ты что?
Привычным движением Коваль осадил коня, отдал честь.
— Веселиться нечему, Родион Михайлович!
— Почему?
Коваль рассказал о поступивших из Владивостока сведениях, об аресте Суханова и гибели Фрола Гордеевича.
— За все разочтемся, — задумчиво произнес Шадрин. — Ты езжай, Андрей, а я посижу.
Печаль легла на сердце Шадрина. Он думал о Суханове. Исчез, а может быть, и погиб человек, который для него был и братом и другом. Не дрогнул в час поражения, не отступил, остался на боевом посту.
— Эх, Костя, Костя! — вздохнул Шадрин.
Горе, охватившее его, сменилось упорным желанием во что бы то ни стало разыскать Суханова. Ведь еще не все потеряно, можно предложить обмен.
В штабе Шадрин с согласия Дубровина и Кострова составил Отани и Мицубиси письмо, в котором предлагал за одного Суханова передать всех пленных офицеров японской армии. Их в Хабаровске было свыше сорока человек. Отправив с парламентером письмо, он вернулся на конюшню, подседлал коня.
Часто постукивая клюшкой, навстречу шел Михей. Шадрин придержал коня, поздоровался. Тощий, высохший от бессонных ночей, дед скинул рваную, засаленную фуражку, стряхнул с нее пыль.
— А я, сударь, до твоей милости. Пора, думаю, рассказать о своих печалях.
Шадрин сошел с коня, забросил поводья на переднюю луку. Араб пошел за ним следом.
— Слушаю, Михей Кириллович.
Дед Михей стал рассказывать о лазаретных делах, о нуждах, о раненых. Он семенил мелкими шажками, подстраиваясь под крупный, размашистый шаг Шадрина.
— Пчелок вот маловато, сладкого к чаю нечего давать. Молока, спиртишку и всяких там лекарственных снадобиев, мы, сударь, расстарались, а вот пчелок нет. Ведь ульи воровать не будешь, они трудовые, крестьянские…
Шадрин побарабанил пальцами по футляру бинокля:
— Монетный двор, Михей Кириллович, во Владивостоке. Как дойдем, так начнем червонцы ковать.
— Во-во, так я и думал, в бедности, значит, сударь, пребываете, — согласился Михей. — Ну что ж, с нищего, говорят, взятки гладки. Наше-то дело плакаться, а ваше — беречь, чтоб ни одной палки в хозяйстве не пропало. Береженая копейка патрон родит.
Читать дальше