Что-то острое и твердое с силой ударило ее в шею, вошло в грудь до самых позвонков и двинулось вниз, вдоль горла, перехватив дыхание, и там, внизу, отозвалось страшной болью. Лошадь хотела вскинуться на дыбы — ей казалось, что боль идет откуда-то снизу — но человек цепко держал ее за поводья. Не то стон, не то вздох вырвался из ее ноздрей вместе с кровавыми пузырями. Постояв секунду на двух задних ногах, она рухнула на колени и ударилась горячим храпом о грязные сапоги высокого человека. Потом еще одна боль — в левый бок, в сердце — опрокинула ее на спину, оглушила, накрыла темным, душным пологом.
Грохота этого последнего выстрела она уже не слышала.
Увернувшись от бившейся в агонии лошади, Рыбаков напустился на Бовина:
— Зачем стрелял? Выдать нас хочешь?
Бовин виновато моргал светлыми ресницами.
— Жалко. Мучилась-то как…
— Кобылу пожалел, а людей нет? — возмутился Рыбаков. — Все-то у вас, интеллигенции, шиворот-навыворот. Теперь немцы нас беспременно найдут. Давай в галоп, иначе не уйти.
Минут пять они скакали по редколесью, потом дорогу преградил густой ельник. Полковник уже не мог сидеть в седле, он то ложился грудью на переднюю луку, то наваливался на ординарца.
— Надо перевязать, а то не довезем, — сказал, спешиваясь, Рыбаков. Он на руках отнес Полякова в овражек, уложил на разостланную Бовиным шинель, расстегнул гимнастерку на груди полковника. Осмотрев рану, сокрушенно покачал головой.
— Не знаю, как по медицине, а по-нашему— дело дрянь.
Бовин согласно кивнул. Пуля попала в спину и вышла под правым соском. Входное отверстие было маленьким, выходное же зловеще алело вывороченной наружу живой тканью, позырилось кровавыми сгустками при каждом выдохе. Нижняя рубашка, гимнастерка, шинель — все пропиталось кровью.
Пока Бовин делал перевязку, Рыбаков поднялся наверх, долго слушал притихший лес. Когда сооружали носилки, Бовин сказал тихо, чтобы не услышал раненый:
— Не довезти нам его. Часа два протянет, не больше.
— Надо, чтобы дотянул! — выкатив глаза, приказал Рыбаков. — На что тогда твоя медицина?
Срубленные шесты продели в рукава бовинской шинели, поясными ремнями прикрутили полы, концы шестов продели в стремена двух лошадей, привязали к носилкам полковника.
— Надо, чтоб выжил, — повторил Рыбаков, осторожно разворачивая жеребца, — генерал сказал: такие, как твой полковник, родятся раз в сто лет.
Крепкий утренник сковал снова начавшие было расползаться последние ледяные залысины. Выпавший с вечера обильный снег к полудню растаял на открытых местах, в густом лесу его кружево все еще покоилось на тонком, местами толщиной в картонный лист, но твердом ледяном панцире. Лихая фронтовая дорога, изжевавшая не одну луговину на добрых полсотни метров в ту и другую сторону, в лесу притихла, втянулась в свое русло, сузилась до предела, стиснутая с боков замшелыми деревьями. От тесноты она поминутно петляла, то уходя от объятий старухи-ели, то уклоняясь от встречи с могучим дубом; лошади пугались, фыркали и спотыкались, носилки встряхивало, голова полковника с белым, словно обсыпанным мукой, лицом и прилипшими ко лбу мокрыми волосами, беспомощно моталась из стороны в сторону. Рыбаков наотмашь хлестал нагайкой по взмыленным крупам лошадей и матерился сквозь зубы, Бовин боязливо помалкивал.
Скоро лес кончился, всадники выехали на опушку, с которой была хорошо видна ломаная линия траншей с редкими дымками костров, нежнозелеными ковриками молодой травы, черными дырами воронок в них и расплывшимися грязными пятнами в местах стоянки походных кухонь. За десять-двенадцать пасмурных дней братья-славяне успели позабыть об авиации противника…
— Вот и довезли, — довольно начал Рыбаков, отирая пот фуражкой с зеленым верхом, но Бовин строго оборвал его:
— Полковник умирает.
Рыбаков скатился с игреневого жеребца, подошел к носилкам. Борис Митрофанович слабо повел в его сторону белками глаз, едва заметно шевельнул пепельно-серыми губами. Бовин с готовностью подался вперед, но Рыбаков отстранил его.
— Отойди, медицина, твое время кончилось.
Отстегнув от пояса флягу, он влил несколько капель водки в почти безжизненный рот полковника. И произошло чудо: глаза раненого ожили, нижняя челюсть подобралась, губы сжались. Поляков медленно поднял руку, согнутой кистью указал на карман гимнастерки. Рыбаков понимающе кивнул, расстегнул пуговицу, достал тонкую пачку документов, завернутых в проолифованную бумагу.
Читать дальше


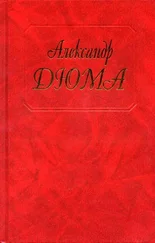
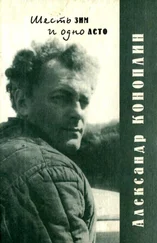


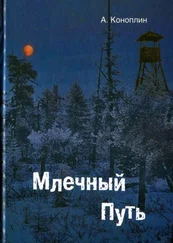



![Вадим Мельнюшкин - Затерянный в сорок первом [сборник litres с оптимизированной обложкой]](/books/413585/vadim-melnyushkin-zateryannyj-v-sorok-pervom-sborni-thumb.webp)

