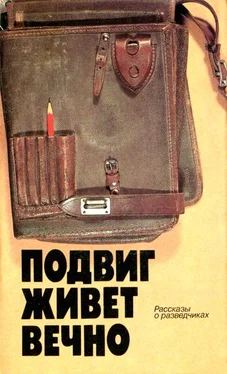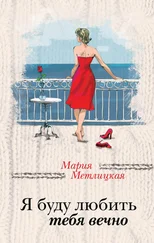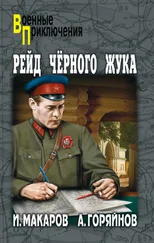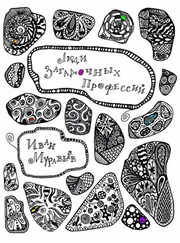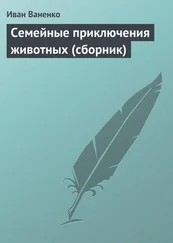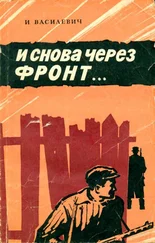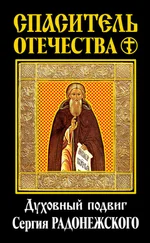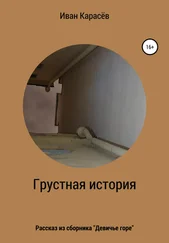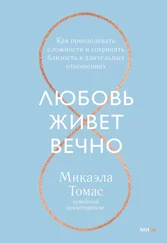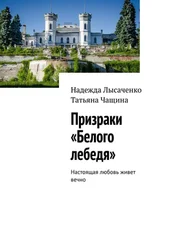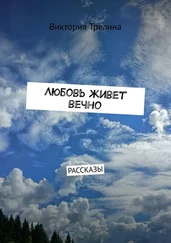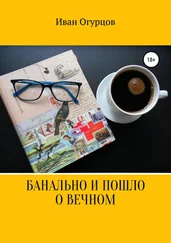Для выяснения этого приходилось добывать отдельные разрозненные сведения и соединять их постепенно вместе, как в мозаичных работах, для получения целого. Опрашивали пленных, перебежчиков и местных жителей. Интересные для разведки данные вырисовывались из писем пленных солдат и офицеров. Этим занимались, по нашему заданию, люди из мэрии города Шнайдемюля, чиновники различных ведомств. Использовались даже сообщения из швейного цеха, обслуживавшего ранее немецкие войска. Там учитывалось количество пошитого обмундирования.
Таким образом из отдельных фактов создавалась общая картина состояния и численности немецких войск, в тот момент противостоявших 47-й армии.
Во время боев на подступах к Берлину одна из наших частей заняла Кунерсдорф. Казакевич напомнил нам, что это тот самый город, где в 1759 году русские войска разбили армию Фридриха II. Потом, подумав, сказал: «Жаль, что на этот раз бои за этот город Кунерсдорф не войдут в историю — его с ходу взяли всего два батальона наших солдат и, не задерживаясь, пошли дальше».
Последние недели войны — когда наши войска стремительно продвигались к Одеру и затем приняли участие в штурме Берлина — были крайне напряженными для всех сотрудников разведотдела. Особенно много хлопот было у офицеров информационного отделения, в котором работал Эммануил Генрихович. Не спали сутками, сменяя друг друга у телефонов и на узле связи, организовывали прием и отправку многочисленных пленных, не говоря уже о самом главном — непрерывном анализе разведданных и составлении донесений для командования, штаба фронта и информации войск.
27 апреля 1945 года советские войска овладели городом Потсдамом. Кольцо окружения было замкнуто. Впереди за Эльбой находились союзные англо-американские войска. Разведчики получили долгожданную передышку.
В самые последние дни войны произошел трагикомический эпизод, едва не закончившийся печально для Казакевича и Аглатова.
В ночь с первого на второе мая из окруженного Берлина прорвалась через реку Хафель крупная группировка немцев и ринулась на запад к Эльбе, через расположение тыловых служб нашей армии. Отдельные группы вооруженных немцев проникли в пункт дислокации штаба армии и оказались около дома, в котором разместился разведотдел.
Казакевич с Аглатовым отправились на узел связи и в темноте неожиданно столкнулись с немецкими солдатами. Не растерявшись, на отличном немецком языке Аглатов приказал им сдать оружие, сославшись на соответствующее распоряжение какого-то тут же выдуманного немецкого генерала. Солдаты сдали оружие и были доставлены в разведотдел. Эммануил Генрихович считал, что это был самый удачный его ночной поиск за время войны.
Таков был характер работы фронтовой разведки и ее офицера Казакевича.
И вот — капитуляция! Берлин взят. Части 47-й армии вышли на Эльбу и соединились с войсками союзников.
Для разведчиков наступило необычное время. Не стало противника, а потому кончилась тревожная боевая жизнь, полная риска. И к этому тоже надо было привыкнуть. Ведь начиная с 22 июня 1941 года разведчики ни на один день не прекращали тайной и явной борьбы, ни на минуту не теряли врага из вида и были подлинными глазами и ушами нашей армии.
Завершился боевой путь разведчика капитана Казакевича, начался стремительный взлет замечательного таланта писателя Казакевича.
Михаил Кореневский, Александр Сгибнев
«ПРОШУ ПРИГЛАСИТЬ СВИДЕТЕЛЯ АГАНИНА!»

«С большим удовольствием прочел в „Красной звезде“ изложение вашего рассказа о работе разведчика И. X. Аганина в контрразведывательном органе гитлеровцев ГФП-312. Честь и хвала ему — мужественному советскому человеку. Никогда не забуду его показаний на судебном процессе в Краснодаре по делу изменников и предателей Родины — Михельсона, Шепфа и др. Перед нами раскрывались действительно малоизвестные страницы войны…»
Из письма военного юриста генерала С. М. Синельника военному историку С. О. Асанову
Фамилия, имя, отчество…
Высветить очерком все стороны воинского и гражданского подвигов И. X. Аганина — это так непросто. Мы имеем в виду не извечные сложности документального жанра, требующего крепко держать в узде творческое воображение, — дело в другом. Случай совершенно особый, и редкие для очеркистов затруднения возникали начиная с первого шага — с первого же пункта всем привычной анкеты: «Фамилия, имя, отчество» — и кончая тем, что борьбу с фашизмом отважный разведчик не прекращал и много лет спустя после войны.
Читать дальше