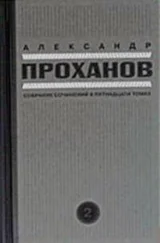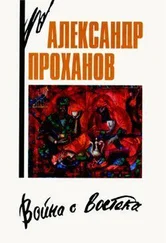На третьем этаже по обе стороны от лестницы стояли высокие торшеры под шелковыми абажурами на хрупких ножках, выточенных из лазурита и яшмы. В глаза Калмыкову бросились резная золоченая стойка бара, стеклянный буфет с пестротой ярлыков и наклеек.
— Там — спальня Амина, — кивнул доктор налево. — А там, — кивнул он направо, — спальня жены, комнаты дочерей, прислуги. А я живу тут, в сторонке!
В маленькой скромной комнате с видом на далекие горы Калмыков опустил на пол картонную коробку. К стене была приколота фотография собаки — вислоухий кудрявый спаниель с блестящими выпуклыми глазами. Калмыкову померещилось: женщина в розовом сарафане, глянцевитые листья кувшинок, и собака, мокрая, стеклянно-блестящая, кладет перед женщиной убитую, с изумрудными перьями утку.
Спасибо, — благодарил Калмыкова доктор. — Вы очень мне помогли. Еще встретимся.
Он морщил маленький рот, сутулился, странный человек-птица. И Калмыков вновь почувствовал мучительную, завязанную между ними связь. Его провожал вниз Валех. Прощаясь у портала, он обнажил запястье, показал подаренные Калмыковым часы:
— Очень хороший время! Советский лучший время! Калмыков, не оставаясь в долгу, посмотрел на свои часы — подарок Валеха, ответил той же любезностью:
— Лучшее время в мире — кабульское!
Рассмеялись, хлопнули друг друга по ладоням, и Калмыков, усевшись в машину, покатил по серпантину мимо Дворца вниз, в батальон.
К ночи изменилась погода, завыл ледяной ветер, глухо захрипел в брезентовых занавесках, задул полог в дверях. Сквозь щели в казарму врывались жалящие сквозняки, и все печки и отопители свистели пламенем, багровые отсветы метались по недостроенному потолку, и солдаты ложились одетыми, ежились под одеялами.
Калмыков слышал, как бьет в саманную стену бурьян, шелестит песок, ударяют сорванные с гор камушки и песчинки. В ночных небесах что-то рвалось, летело, человеческая душа напрягалась, а плоть страдала, в кровь проникали невидимые яды небес.
Калмыкову снилось, что он дома, в России. Родина в беде и несчастье. Все сдвинулось с основ, все гибнет и рушится. Над черными, лишенными тепла городами — красное зарево. Его отблеск на рельсах, и он бредет по насыпи мимо застывших ржавых вагонов, а под насыпью по липким болотам бредут бессчетные беженцы. Среди них его мать в дырявом платье, в лохмотьях, как нищенка, и дед, опираясь на кривую клюку, и множество других, забытых и памятных лиц, как тени, сгорбленные, гонимые заревом.
Он стонал, метался во сне, порывался встать. Знал, что место его там, в гибнущих родных краях. Там его дело, служение, жертва. Он готов сложить свою голову за измученное лицо старика, за худенькую шею девочки, за обшарпанный особнячок в переулке.
Он проснулся от яркого света, бьющего сквозь пленку в окне. Это было солнце, но усиленное яркой и новой свежестью. За окном было бело, чисто. Выпал снег, и его ровное сияние проникло в казарму.
Снаружи, за брезентовым пологом, было шумно, топали ноги, раздавался крик, визг. Он вышел на воздух. Все блестело, благоухало, сочилось. Ровные волнистые снега лежали на ближних холмах, скрыв под собой все осыпи, рытвины и каменья. Горы, белые и седые, возносились в синеву, как огромные распахнутые крылья. Солдаты бегали, продавливали снег каблуками, хватали его, жевали, чмокали, растирали им свои голые груди и животы, визжали, гоготали и охали. И уже летели во все стороны снежки, ударялись в стену казармы, оставляли белые метины. Маленький верткий киргиз с пульсирующими мышцами лепил сочный снежок, увертывался от попаданий. Прицелился, напрягся, метнул снежок в голоспинного, косолапо убегавшего увальня, ком снега разорвался на голых лопатках, брызнул, увалень заревел от боли и наслаждения, а киргиз в восторге завертелся на месте, расшвыривая вокруг мокрую белизну.
После утреннего построения, выслушав доклады ротных, Калмыков зарядил батальон на ежедневные работы в парке, на строительстве, стрельбище. Взял бинокль, поднялся на вершину холма, проминая в снегу хрустящую плотную тропку.
Дворец, млечно-желтый, стройный, красовался среди серебряных откосов в бледной голубизне. Яблоневый сад нежно розовел. Деревья были в покровах, а сухие бурьяны золотились сквозь сугробы. Калмыков восхищался Дворцом, вдыхал его свежесть, испытывал нежность. Охватывал гибкую стройную талию, танцевал среди сияющих пространств.
Увидел в бинокль — по серпантину, среди прозрачных деревьев, словно льющаяся в переливах струя, несется кавалькада машин. Достигла Дворца, развернулась, блеснула радиаторами, застыла перед порталом. В длинных лакированных лимузинах открывались дверцы, из них выходили военные, охранники в штатском. Ступали по снегу, окружали кольцом машины. Из длинного кофейного автомобиля вышел человек в пальто и шляпе. Поднял голову, осматривая янтарный Дворец. Калмыков в окуляры угадал знакомое по портретам лицо, плотные сытые щеки, хрупкие губы — узнал Амина. Из другой машины вышли полная низкорослая женщина в длинной шубе, с непокрытой головой и две девушки. Оттуда же выпрыгнула, по-озорному пробежала за цепь охранников девочка в расстегнутой шубке. Наклонилась, подцепила снег, склеила снежок, кинула в ближайшего охранника. Калмыков с холма сквозь линзы бинокля угадал ее смех, детский счастливый визг, улыбку охранника, до которого не долетел снежок.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу