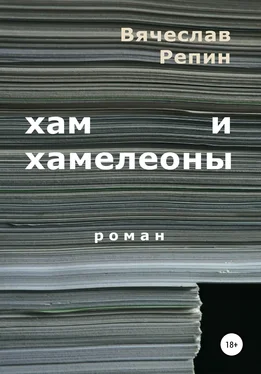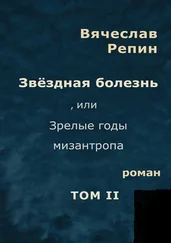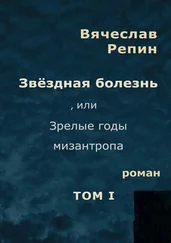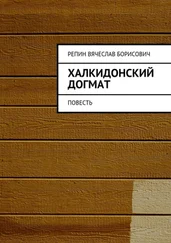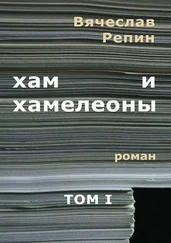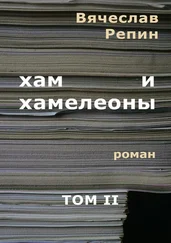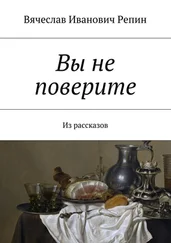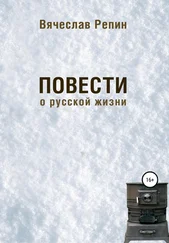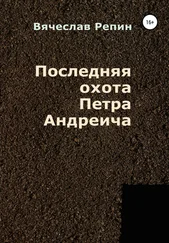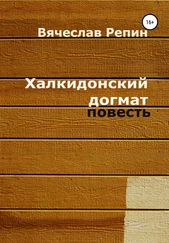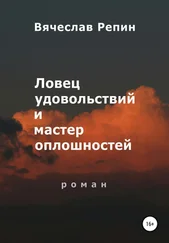– Я не уверен, что ты всё хорошо себе уяснил… За неделю три машины взлетело на воздух только на нашей трассе! – нахмурился подполковник. – На днях пришлось бомбить перевалы. Везде передвижения войск – наших, и ихних. Или ты думаешь, что у них нет армии – одни банды, как в газетах пишут?
Рябцев едва заметно порозовел.
– Только и разницы, что никто не знает, где на этих чертей можно нарваться. Так что смотри мне: людей доверяю, не стадо баранов. На связь выходить поэтапно. Я должен всё знать – что вы там нашли, сколько. Закончили – и два слова в эфир. Но лишнего тоже не болтать, никаких координат! Всех предупреди, чтоб не зевали. Если что, поддержка подоспеет нескоро, сам знаешь.
– Я проведу дополнительный инструктаж. Задача будет выполнена, Егор Матвеич, – заверил капитан таким тоном, будто бы хотел сказать что-то другое, не по уставу, но не решился.
– Всё. Иди…
Подполковник поднялся и протянул капитану огромную потную пятерню, крепко пожал ему руку и отвернулся…
Головной БТР, за ним другой; следом – два крытых «урала» с наваренной вдоль бортов броней, а в хвосте – третий, замыкающий БТР прикрытия, – колонна шла сжато, гусеницей, строго в соответствии с инструкциями.
Несмотря на предрассветный туман, среднюю скорость удавалось удерживать неплохую – шестьдесят километров в час. При выезде на главную трассу, уже на Атаги, туман начал рассеиваться. Но остатки грязно-серой пелены, клочьями застилавшие разбитую дорогу, всё же заставили сбавить темп. Рябцев посмотрел на часы: в график не укладывались. Командование было тотчас поставлено об этом в известность.
С первыми проблесками зари знакомые очертания местности стали меняться так быстро, что глаза не успевали привыкнуть к метаморфозам. Свежесть разгоравшегося дня будоражила не меньше, чем ждавшая впереди неизвестность. Но лихорадило здесь от всего подряд, стоило оказаться за пределами войсковых заграждений. Непривычными, чужими были запахи. Даже земля Кавказа издавала какой-то особый запах. Может быть, поэтому и мысли в голову лезли неожиданные, комкообразные, – так бывает во время болезни. Той же, возможно, причиной объяснялась бросавшаяся в глаза несобранность людей, которую Рябцев не мог не замечать. Вид подчиненных пробуждал в нем неприятное чувство сродни неловкости, ощущение, словно он их дурачит. Разве не знали они, на что идут? Задумчивая медлительность проступала даже на физиономии взводного Бурбезы – несгибаемого оптимиста и вечного прапорщика, который годы назад, еще в советские времена, дезертировал из авиаполка под Одессой, чтобы напроситься в войска специального назначения родной, как он считал, Российской армии.
Через пару километров, недалеко от пункта водозабора, впереди показалась колонна инженерной разведки. Состыковка произошла раньше, чем предполагалось, – те тоже не очень четко соблюдали график. За бронетранспортером с болтающимися усищами антенн лязгала траками БМП, покрытая камуфляжными лохмотьями и оттого имевшая такой вид, будто вылезла из болота. Бронемашину поджимал сзади открытый «урал», из кузова которого торчала расчехленная 23-миллиметровая зенитная установка. Замыкали группу БТР и пристроившийся в хвосте колонны рейсовый автобус. Чтобы дать военным разъехаться, автобус свернул на обочину. К замызганным стеклам льнул изнутри потрепанный гражданский люд в платках и фуражках, с застывшими перепуганными лицами. У местных доверия к армии – ни на грош. Это было написано на лицах людей и каждый раз поражало.
Сержант-контрактник Гречихин, крутивший баранку «урала», торопливо заорудовал ручкой стеклоподъемника, высунулся и помахал встречной колонне. Из БМП и из кузова встречного «урала» отреагировали моментально. Широко улыбаясь, сержант покосился на сидевшего рядом Рябцева. Появление на дороге своей колонны, успевшей пройти весь маршрут, придавало уверенности тем, кому это еще только предстояло.
Относительно безопасной дорога была только до села Дуба-Юрт, протянувшегося вдоль русла пересохшего Аргуна. Вернее, до развалин, что остались от села со времен прошлой кампании. Следы разрушений были видны даже по прошествии нескольких лет. Скопище разгромленных домов с развороченными крышами свидетельствовало о нешуточном артобстреле, а изрешеченные ворота и остатки стен говорили об ожесточенном ближнем бое. Но, несмотря на смертельные раны, село выжило. Редкие «подлеченные» дома притягивали глаз издали: они легко распознавались по заново возведенным кровлям.
Читать дальше