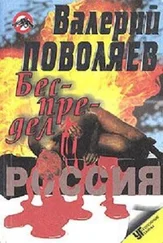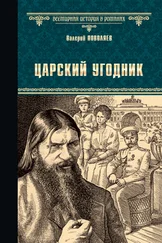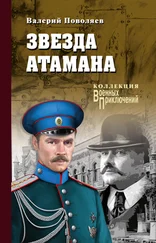— E! — Старшина как был невидим, так и не проявился в темноте. Голос его исчез.
Громов с беспокойной гулкой тревогой, с колотьем под ребрами задумался: как быть дальше? Связи с дивизией никакой. Единственно возможный язык разговоров — ракетница. Да и то разговоры придется вести недолго — ракет к ней всего две штуки, красных. На тот самый случай, когда придется ставить точку и вызывать огонь на себя. Если наши увидят, то накроют высоту огнем дивизионных пушек. Две красные ракеты — сигнал «вызываю огонь на себя».
Остаток ночи Громов провел за картой, решал, смогут ли они прорваться к своим или не смогут. Сходил в госпитальный блиндаж посоветоваться с раненым старшим лейтенантом Иваном Кузьминым. Тот, выслушав громовские соображения, прижал к себе задеревеневшую культю.
— Ты, мужик, сейчас командир! — сказал он, напирая на слово «мужик». — Тебе видней, что в данный момент делать, а чего не делать. Но знай одно: если будешь прорываться с нами, с ранеными, то дело твое дохлое. Не прорвешься. Сам погибнешь. А о нас и речи нет — все поляжем. Если будешь уходить, оставь нам немного патронов, чтобы мы живыми не попали к врагу, — будем прикрывать вас. Как решишь, так и будет. Мы тебя не осудим.
— Т-точно, старлей, не осудим, — подтвердил лежавший на полке бородатый и худой, как Дон Кихот, парень в обвисшей, очерненной грязью нательной рубахе, — в крайнем случае, во-от…
Он сунул руку под брезентовик, подложенный под голову, извлек гранату-лимонку с проржавелым лобиком.
— За так не отдадимся.
В зрачках его блеснула злая удаль, прямолинейная бесшабашность человека, не привыкшего уступать, покоряться. Кузьмин кивнул с сурово закаменелым лицом, поддерживая решимость парня с гранатой.
— Дело, кореш, — сказал он. — А ты, лейтенант, решай сам, чему быть, а чему не бывать. — Он поднял культю, строго прищурившимися глазами оглядел густо-рыжую от крови концевину.
Громов тяжело крякнул, поднялся, пошебаршил пальцами в плотной щетине щек.
— Отросла, а бриться нечем, все осталось в обозе. Если только осколком стекла?
Ясно одно — высоту нельзя оставлять. Причин на это две: первая — с ранеными им не прорваться, тут Кузьмин прав, и второе, высота — важный опорный пункт; уйдут они сейчас с нее, отдадут немцам, значит, потом, при наступлении, ее придется брать снова. И, ой-ой-ой, какой дорогой ценой. Словом, высоту оставлять нельзя. Надо держаться до последнего.
Утро началось с немецкой атаки.
— Фрицы, сволочи, живут по расписанию. Проснулись, умылись, перекусили, выпили по чашке кофе, набили «шмайсеры» патронами и потопали в атаку… Ну-ну, давайте, давайте, голубчики, мы вам сейчас покажем, где раки зимуют, — разразился лежавший рядом с лейтенантом — вдвоем они едва втиснулись в мелкий окопчик — солдат Серега Чернышев. Его фамилия врезалась Громову в память, до сих пор помнит, хотя людей прошло перед ним тысячи. — Давайте-давайте, блесните напоследок сапогами.
Главное, подпустить немцев поближе, угадать психологический момент, когда можно ударить наверняка. Наверняка и чтоб патронов меньше потратить…
Немцы цепью продвигались к высоте, окружая ее полукольцом.
— Завоеватели! Гниды пахучие, — выглянул из окопчика Чернышев, а Громов осадил его непривычно резко и зло. Сдавали нервы перед боем, он подумал об этом без сожаления, с обреченностью.
— Не долдонь, Черныш! — сказал он, хотя знал, что, не будь этих непритязательных, очень простых шуток солдата Сереги Чернышева, жилось бы высоте тяжелее.
— Стрелять одиночными, экономить патроны, — передал по цепи Громов, притиснул к плечу автомат, ощущая щекой остужающе холодную боковину приклада.
— Стрелять одиночными, экономить патроны… Стрелять одиночными, экономить патроны… — пополз приказ по траншее.
Громов выждал, когда немцы были уже совсем близко и шли осмелело, не встречая огня, когда различались даже блестины пота на распаренных молодых лицах, огрузших от напряжения и крутизны подъема, выкрикнул резко и властно:
— Пли!
— Гха! — гикнул Серега Чернышев. — Понеслась душа в рай, лапками засверкала.
Грохот вспорол трепетную опасную тишину, и Громову, сразу полегчало, он холодно и спокойно ловил на мушку муравья, одетого во вражеский мундир, тщательно прицеливался, чтобы не было промаха, и равномерно, с едва уловимой плавностью нажимал на спусковую собачку, не глядя уже потом, что делал подбитый им муравей.
Затем из-за мутной, с перепадами, едва различимой кромки горизонта, из-за горбушек бугров выползло солнце, осветилась березняковая плешь, заискрилась мокрая от ночной испари ложбина под высотой, и розоватый парок, прикрывавший топкое болото да скособоченные домики недалекой деревушки, покинутой жителями и очень схожей с Маковками, начал таять, редеть на глазах. Едва стаял, как Громов увидел танки — приземистые серые утюги. Два, три… пять… восемь… пятнадцать… Пятнадцать машин! Не совладать. Он тронул пальцами шею, пытаясь унять судорогу, стянувшую горло, потом стер рукавом ватника липкую моросу с носа и подбородка, в горячечном мозгу вспыхнула однозначная мысль — все.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу