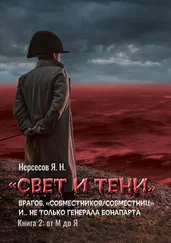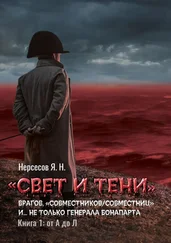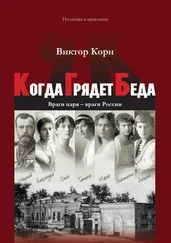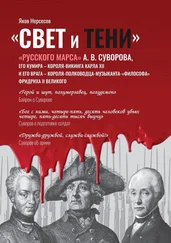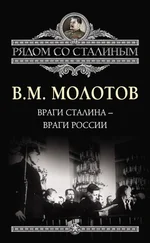Он инстинктивно понимал, что не должен рассказывать Тамаре в с ё, а потому довольно умело рисовал себя героем, борцом за идею. Свою тесную связь с партизанским штабом в Николаевске он объяснял ей страхом перед Тряпицыным. Конечно, он говорил Тамаре, что всегда был настроен против Тряпицына, никогда не одобрял его кровавой работы и лишь подчинялся его приказам, неисполнение которых влекло за собою смерть.
Тамара смотрела в его голубые глаза – и верила ему, ибо страшно было не верить. Она ему была дорога, он крепко привязался к ней и теперь боялся, чтобы кто-нибудь не раскрыл ей, что он был непосредственным участником тряпицынских расправ. А такая возможность была: ей могли всё раскрыть чудом спасшиеся родственники тряпицынских жертв или те же партизаны, которые, бежав из Керби, массами съезжались в Благовещенск.
Фролову помогла встреча с фронтовым сослуживцем, ещё по германской войне, товарищем Корецким. В полку он был вольноопределяющимся, после революции очень скоро оказался большевиком, а после Октября стал играть заметную роль – сначала в полковом совдепе, затем в корпусном и армейском. Теперь он приехал в Благовещенск из Москвы с ответственным поручением: поддерживать связь с Краснощёковым-Тобельсоном в Хабаровске, наладить советский строй на восточной окраине Сибири, уничтожив буферную республику ДВР.
– Видите ли, товарищ, – сказал он Фролову. – Я со вниманием выслушал вашу эпопею. Партизанские ваши заслуги, конечно, очень велики и будут приняты во внимание. Но этого мало. Теперь период войны закончился, белые уничтожены, нужно мирное строительство. Вот для него-то у вас и не хватает самого главного – знаний, специальности. Мы принуждены брать спецов из буржуев, потому что людей образованных у нас нет. Конечно, я мог бы вас устроить в армию…
– Нет, нет, – перебил Фролов. – Только не в армию. Война, военная служба мне надоела. Хватит с меня, повоевал…
– Ну, вот, видите, вам надоело. А ни на что другое вы не способны. Я могу, пожалуй, помочь вам получить некоторое образование, но для этого от вас требуется огромная работа, колоссальная усидчивость. Ведь вы ничего не знаете. Видите ли, в моём распоряжении несколько бесплатных вакансий – в Москве, в рабфак. Я могу вас туда устроить. Если вы подготовитесь и выдержите экзамен, то стипендию я вам устрою – как герою гражданской войны.
Фролов, конечно, промолчал, что у него ещё порядочно денег и ценностей и бесплатная стипендия, собственно, ему совсем не нужна.
– Вы одиноки?
– Женат.
– Плохо! Лишний груз!
– Нет, товарищ Корецкий. Именно жена и уговаривает меня получить образование. Она уже сейчас занимается со мной.
Фролов энергично взял за руку этого маленького, щуплого коммуниста в пенсне, с чахоточными, впалыми щеками.
– Обещаю вам, товарищ Корецкий, оправдать ваше доверие – только отправьте в Москву! Я молод, полон сил… это ничего, что поздненько за книгу берусь. Я чувствую себя в силах одолеть науку. А там – пригожусь советской власти, ещё вместе служить будем. Помогите, товарищ Корецкий!…
– Ну, хорошо. Думаю, что из вас будет толк. Вы как будто человек сильный. Я устрою вам Москву. А пока, до отъезда, я займусь с вами политической грамотой. Я заметил, что в нашей программе вы разбираетесь хуже, чем в сопках и таёжных тропинках…
XXX.
Шесть лет учился Фролов в Москве – в самые страшные, голодные и холодные годы. Впрочем, вступив в партию, ни голода, ни холода он не испытал. Голод и холод испытали те, кто учили его, – преподаватели бывших гимназий, а позднее приват-доценты и профессора. Эти люди были похожи на скелеты и приходили на лекции в старых шубах, в порванных валенках, в разном тряпье под шубами, иногда одетом прямо на тело. В аудиториях было нетоплено, в разбитые оконные стёкла дул пронизывающий ветер. Ученье шло кое-как, прерываемое иногда смертью то одного, то другого профессора, умершего от голода или расстрелянного.
Поддерживаемый Тамарой, которая также бегала по разным курсам, Фролов упорно учился. Иногда он срывался, падал духом, говорил, что всё это ни к чему, даже запивал с другими слушателями рабфака. Но, протрезвившись, снова брался за книгу. Партийный билет давал ему возможность жить не голодно и иметь много привилегий. Летом они ездили в Крым и на Кавказ, купались, загорали на берегу горячего, южного моря. Зимою возвращались в Москву и снова брались за книги.
Так шли годы. Всё более тускнел, уходил в небытие Николаевск, всё более тускнели в памяти Тамары лица отца, матери, брата, сестёр. Всё это было в прошлом. Другие города, другие лица, другие интересы, другая жизнь делали воспоминания о Николаевске, о далёком, счастливом детстве, о тех кровавых днях неясными, всё более серыми, туманными, всё более редкими. Гораздо чаще Тамара думала о настоящем и будущем, чем о прошедшем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
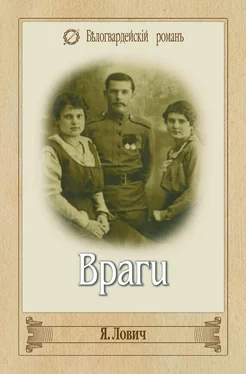

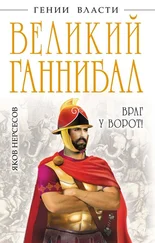

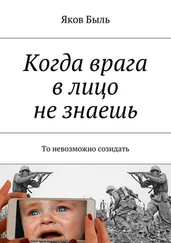
![Яков Лович - Что ждет Россию [Том II]](/books/424294/yakov-lovich-chto-zhdet-rossiyu-tom-ii-thumb.webp)
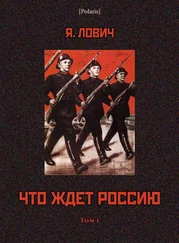
![Яков Лович - Дама со стилетом [Роман]](/books/427313/yakov-lovich-dama-so-stiletom-roman-thumb.webp)