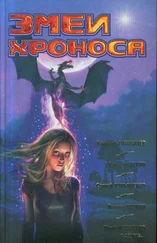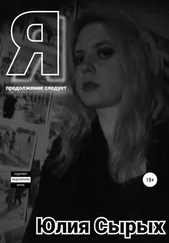Я благодарил и проклинал тот день, когда мы познакомились. Благодарил за то, что узнал: она есть на свете. Проклинал за то, что у меня была припухшая щека: болел зуб. Самое неподходящее время и состояние для первой встречи.
Ах, эта припухшая щека! Может быть, именно из-за неё я произвёл не то впечатление, какое хотел.
Потом я без конца звонил ей домой по телефону. «Её нет», «Она ещё не пришла», «Она у подруги», «Скоро будет».
Но в конце концов я дозванивался, и тогда мы подолгу говорили, до тех пор, пока у телефонной будки не начинал выстраиваться хвост и мне не стучали в стекло.
Тогда я вешал трубку и бежал к другому автомату.
А потом понуро плёлся домой: встретиться со мной она не хотела: «Занята», «Репетиция самодеятельности», «Пионерский сбор». Почему-то всегда, когда я звонил, были репетиции и сборы.
Однажды, полностью отчаявшись, я написал ей письмо, большое письмо, занявшее чуть ли не целую тетрадку, и решил отнести его сам. Опустить в ящик на двери.
На лестнице было темно, почтовый ящик я нащупал с трудом, и в тот момент, когда я опускал письмо, она открыла дверь. Услышала, как я шуршал.
Удивилась, конечно, растерялась немного, но сказала: «Входи, входи. Снимай пальто».
Входить было страшно, снимать пальто ещё страшнее: я был одет не для визита. Сидел дома в куртке, в которой обычно ходил в сарай за дровами. На куртку надел пальто и пошёл опускать письмо. Возможности неожиданной встречи не предусмотрел.
Мою исповедь она прочитала тут же. Что сказала, не помню. Но была ко мне подчёркнуто внимательна. Как к больному. А разговаривала, как старший с младшим, снисходительно. И это меня бесило. Я чувствовал её силу и свою слабость. И, досадуя на себя, влюблялся ещё больше.
Потом я снова звонил ей из автоматов. И носил в кармане её фотокарточку.
...Год спустя после войны я лежал в Москве в военном госпитале: открылись фронтовые раны, была операция.
Она узнала об этом от подруг и пришла навестить меня. Нежданно-негаданно. И я снова волновался, как тогда мальчишкой. И опять забыл от волнения, о чём же мы говорили. Пришла на час, подняла бурю и ушла.
Я был в гипсе.
Так никогда и не предстал перед ней в нормальном человеческом виде.
Три встречи... Такой короткий рассказ о любви. Без продолжения.
Первая тревога.
...В середине июня сорок первого в спецшколах окончился учебный год и учащиеся после нескольких дней отдыха отправились в военные лагеря.
На этот раз не железной дорогой — водой.
Большой белоснежный пароход «Менжинский» ждал нас в Южном порту.
У трапа играл духовой оркестр и было очень торжественно.
Расцеловавшись с провожающими — с родителями, с товарищами, с горячо обожаемыми девушками, «спецы» поднимались на палубу.
Как потом оказалось, это было для нас прощание с мирным берегом, с берегом мирной жизни, ибо после плавания по Москве-реке и Оке пароход пристал к берегу, с которого послышались частые, беспокойные сигналы трубы. Горнист играл тревогу. Тревога оказалась не учебной, как бывало раньше, а боевой.
Мы сбежали по трапу, промчались дебаркадером и выстроились на прибрежной поляне. Нам объявили: «Война».
А с пароходом «Менжинский» мы встретились через сорок пять дней. Он приплыл за нами закопчённый, с выбитыми стёклами: «Менжинский» побывал под бомбёжкой. И Москва была уже другая — военная. С окнами, заклеенными полосками бумаги, закамуфлированная и с «колбасами» аэростатов в неспокойном и ненадёжном небе.
В школе мы приступили к занятиям, но скоро их отменили: «спецы» направлялись на строительство оборонительных сооружений.
Много времени прошло с тех пор, много в жизни было тревог. Стучала кровь в висках, и мозг не раз сверлил беспокойный вопрос: «Что же дальше?» Тревоги приходили и уходили. Часто и не запоминались. А та, первая, осталась в памяти навсегда.
Трубил горнист на берегу Оки...
Та тревога сделала нас сразу старше. Та тревога родила тысячи других тревог. Она изменила жизни и судьбы. Каждый по-своему встретил страшную весть 22 июня. А солнце померкло для всех. Когда опять засверкает оно так нежно и ласково, как в начале лета сорок первого? Когда же конец тревогам? Да, «покой нам только снится», покой, прерванный навсегда сигналами трубы.
Вспоминается и хорошее, и плохое. Больше — хорошее.
Первое торжество, на котором я был, — ноябрьский парад 1933 года на Красной площади. Первый командир, которого я полюбил на всю жизнь, — строгий и справедливый, умный и добрый старший политрук Сергей Александрович Поляков. Первая большая радость — окончание спецшколы. «Спецам» перед строем зачитали приказ о выпуске, потом они, радостные, возбуждённые, жгли под обрывом на берегу Ишима надоевшие им тетради, оставив для себя только те, на которых было написано «Артиллерия».
Читать дальше