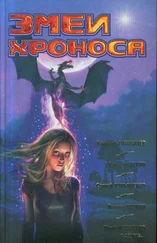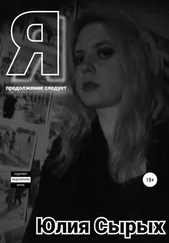Первая встреча с удивительным.
Она произошла в нашем доме. Мы жили на втором этаже, а под нами была музыкальная мастерская одинокого нестарого человека, которого все звали по имени — Тимошей.
Я был у него добровольным нештатным помощником. Мама сшила мне фартук, и я часами сидел в его тесной мастерской, где стены были увешаны гитарами, балалайками, мандолинами. На деревянных полках стояли гармонии, баяны. На отдельной маленькой полочке — губные гармошки.
Принесли ему как-то в ремонт огромную, в два раза больше меня, скрипку. Тимоша сказал, что это контрабас.
Что такое скрипка, я уже знал. Скрипка тоже висела в его мастерской. Но не чужая, отданная ему в ремонт, а его собственная. Он играл на ней вечером, когда было настроение. Единственным его слушателем был я.
Тихо и тонко поёт скрипка. Голос совсем как женский или детский.
Как не боготворить мне было этого человека, если он умел играть на стольких инструментах! Разбирал их, собирал, склеивал. Все музыканты с ближайших улиц шли к нему за помощью, и он умел то, что не умели другие.
От него я узнал, что гармонии не все одинаковые. Есть гармонии-хромки и гармонии-венки. Флейта называется свистящим духовым инструментом, а кларнет — язычковым. На изготовление и ремонт инструментов идёт дерево разных пород: клён, орех, ель. Ель не простая, а ре-зо-нанс-на-я. И ещё: скрипка — царица музыки. Скрипичные смычки делаются из конского волоса, а струны — из кишок ягнят. А секрет лака, которым давным-давно покрывали скрипки кремонские мастера, утерян. И от этого скрипки стали хуже.
Очень красиво: резонансная ель! А «хромка», «венка» и «свистящий инструмент» — смешно.
Я не видел, чтобы Тимоша смеялся. Был он, как мне казалось, грустным. Улыбался только иногда — если оставался доволен законченной работой.
Утром я ждал его у мастерской. Он приходил, здоровался, снимал замок и говорил одно и то же, немного нараспев и тихо, словно сам себе:
— Сейчас клей варить будем и — работать, работать, работать...
Я трудился, конечно, весьма относительно. Таскал воду с колонки в ведёрочке, наливал керосин в старенькую «грец» или примус, ходил за спичками и газетами, вытирал пыль с инструментов. Иногда делал более существенное — размешивал клей. А больше смотрел и слушал.
В мастерской тишина. Лишь трепещет пламя в керосинке. И вдруг рождается звук.
Тимоша хмурится, недоволен:
— Фальшивит.
Потом снова и снова:
— Фальшивит... Фальшивит... Фальшивит...
И, наконец:
— Теперь так, как надо!
Улыбается. Я тоже доволен: «Ещё одну штуку сделали».
Тимоша почти не отдыхал. Уходил весь в свою таинственную, непостижимую для других работу, даже не сразу откликался, если к нему обращались пришедшие в мастерскую люди.
И я решительно обо всём забывал. Весь мир был в этой маленькой музыкальной мастерской.
И очень хотелось мне, чтобы Тимоша раскрыл утерянный людьми секрет кремонского лака.
«Клей варить будем и — работать, работать, работать...» — слова мастера, который видел в своём деле всё: и смысл жизни, и удовольствие, и исцеление от недугов и забот.
Первый товарищ.
Во дворе нашего дома во флигеле жил домоуправ Силак, австриец по национальности. У него была жена Станиславна, которую, за то что она очень часто и невнятно говорила, прозвали Балалайкой, и сын Генька, мой ровесник. Все остальные ребята во дворе были старше нас. Так что мы с Генькой держались ближе друг к другу. По-братски обменивались прихваченными из дома бутербродами и личным оружием — самодельными пистолетами. Зимой — коньками.
В войну в нашем дворе играли дом на дом. Мы с Генькой оказывались всегда в противостоящих лагерях. Однажды я брал Геньку в плен, и мне было его очень жалко.
В середине тридцатых годов Силак сложил с себя обязанности домоуправа и уехал с семьёй в Австрию.
Мне без Геньки стало одиноко.
На фронте как-то услышал: «Вон стоит партия пленных. Все австрийцы».
Пошёл посмотреть: «А вдруг увижу Геньку?» Дальше мысль работала так: «Неужели мой Генька может оказаться среди этих бандитов? Нет, нет. Мой Генька навсегда останется московским мальчишкой, который на Первое мая ходил с красным флажком и пел своим тоненьким голоском:
Заводы, вставайте! Шеренги смыкайте!
На битву шагайте, шагайте, шагайте!»
Первая любовь.
Она жила не на нашей улице, а в Дубровском посёлке. За несколько трамвайных остановок. И училась в другой школе.
Была на класс старше меня. Уже вступила в комсомол, но носила красный галстук: пионервожатая.
Читать дальше