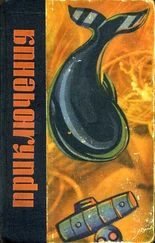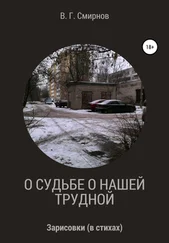Изустным неназойливым учебником жизни шел рядом с партизанами дядько Коронат, не требуя никаких благодарственных слов и заслужив у начальства только одно неписаное право — однажды заскучать где-нибудь в землянке в хмельной и загадочной тоске, в обнимку с четвертью самограя, с песней, пузырящейся на паленых губах: «Ой, пье Байда мед-горилочку, ой, та не день и не ночку, ой, прийшов до нього царь той турецький, ой, та що ж ты робишь, Байда молодецький?..»
И кричит Коронат, и спорит с кем-то, и клянет кого-то, и поет, и тихо шепчет прекрасные, нежные украинские слова тем, кого уже нет, кто остался на полях мировой и гражданской, кто умер от голода в двадцать первом и тридцать третьем, кто ушел из родных мест с котомкой по своей или чужой воле, кто бросился в сорок первом навстречу угловатым, коробчатым немецким танкам, вооружась бутылкой с бензином. А чаще всего вспоминает Коронат свою Килину, последние ее слова. «Ой, помираю я, Коронате, прыдывысь за сынами, не покидай их ни в день, ни в ночь, не покидай и на мачеху…» А сыны подросли, сами покинули батьку, надели шлемы с красными звездами, пошли служить на пограничную заставу под город Брест. «Где вы, сыны мои, где?..» «Ой, поихав з Украины козак молоденький, орехово седелочко щей й конь вороненький…»
Не такая уж долгая жизнь у Короната, не стариковская еще, но пришлась она на такие вьюги и метели, на такие крутоверти, что иным и за долгие века не расхлебать. Всего нагляделся дядько ездовой, разве что смаленого волка не видел. Многих, многих потерявшихся в пути вспоминает Коронат и, бывает, буйствует, а связанный, крушит друзей руганью, тяжелой, как бутовые глыбы. И не дай бог тогда развязать Короната. Но то — краткое, как приступ болезни, буйство, а трезвый дядько Коронат тих, добр, неспешен и лишь поскрипывает, как длинный чумацкий воз, заприметив нерадивость своих обозных.
Сейчас дядько протянул свою тесанную из дуба руку к замершему в предчувствии прорыва Шурке, нащупал плечо, сжал. Э, Домок, зябко тебе в темноте?
Павло исчез, будто в болоте утонул, и где-то рядом вызревает бой, наливается, как волдырь на черной трясине, чтобы лопнуть в один миг с гранатным грохотом и пулеметным треском.
— Ой, люблю я осенние ночи,— бухтит Коронат, ощущая под ладонью легкую дрожь Шуркиного плеча.— Запашистые ночи, тихие. В такие ночи очи у человека в ноздрях. И знаешь, Шурок, що? Осенью корень пахнет. Весной — нет, весной земля парная, сама духом дышит… И еще — цвет весенний, свежий, все перешибает, лезет в воздух, как кум с дрючком, нахально. А зараз чуешь, нет?
Бухтит Коронат родничком во льду, и дрожь Шуркиных рук стихает. И кажется ему, будто и впрямь он начинает различать немые голоса бьющих из-под земли живительных запахов. Так же пахнет обычно большая походная повозка Короната, заполненная мешочками с цветами и корнями воробьиной кашки, царской бородки, сороказуба, копытняка, первоцвета, горца… И так же пахла хата у бабки Галины, хуторской травной ведуньи, и тем же настоем был пропитан их домик на склоне Лукьяновки. Так пахнет детство, вера в чудо, бессмертие.
— То хорошо, что туман, дуже хорошо,— продолжает нашептывать Коронат, чтобы не оставлять Шурку наедине с мыслями.— Чую я, к утру захолодает, разнесет… а пока хорошо.
Павло возникает легким колыханием белесой тьмы, едва уловимым ветерком в осеннем застое.
— Там наши на телегах,— говорит он.— Ждут. Мы должны стать попереду, шагов за пятьсот. Они пойдут разом, но шумно, оттянут на себя карателей, как дурную кровь.
Они снова движутся в ночи, теперь уже через мелколесье, к краю топи. Ход у таратайки становится вязким, тяжелым. Земля, расступясь, хватает ободья колес. Особенно ощутим здесь застойный запах болота, запах смерти, вечной переработки живого в удобрения, в торф, в почву для каких-то дальних ростков.
— Подмогай, как побежим,— шепчет Шурке Павло.
Низкие ветви ольховых кустов задевают лица шершавыми и влажными пожухлыми листьями. Туман становится все гуще, он клубится над болотом, как над стынущим котлом, и это немое клокотание Шурка ощущает кожей. У леса творится загадочная и чем-то пугающая ночная жизнь, текущая рядом с человеческой и не прикасающаяся к ней, своя. Так строй танков обходит на шоссейке пехоту…
— Стоп,— шепчет Павло.— Здесь. Багно рядом, топь. Туман гуще.
Они замирают.
— Как отсюда на север взять, к Груничам, соображаешь? — спрашивает у Короната разведчик.
— Соображаю. Сейчас главное — от боя уйти.
Читать дальше