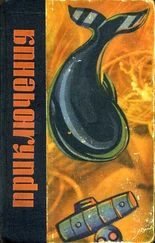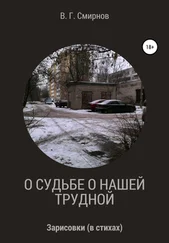А Дана… Дана все смеялась и мыла полы. Ни голод, ни тяжкий труд в соседней пошивочной артели, постепенно сгибающий человека, как кузнечный молот подкову, не могли укоротить ее любви к смеху и чистым дощатым полам. Она затихала только к вечеру, и сыновья, прилепившись к ней, как пчелы в дождь, слушали рассказы о Муции Сцеволе, гордясь тем, что рассказчик приходится им отцом. Все, что творилось в доме, они принимали как должное, по малолетству не ощущая, что родились на разрыве времен в опасной близости к былой фамильной славе рассказчика странных историй. Позже, позже узнает Шурок холодный ветер, дующий из разрыва. А до того невинные глупые шуточки, кличка паныч, заработанная им в первый же день на хуторе, куда мать привезла лечить его от рахита, болезни, которой щедро награждал разоренный город хутор! Высокое небо, дыхание Днепра, песни на закате, мягкий говор, удары теплой и твердой земли в босые пятки на бегу, страшная прыгающая высота лошади, хруст краденого яблока… Вырван ты, Шурок, крестьянской Украиной из городских улиц, и румяный казак Байда сменил Муция Сцеволу, заманил тебя перезвоном бандуры.
Потом из хутора отец уведет тебя к другому, нависающему звездному миру, к пронзительным линзам телескопа, к облупленным абсидам древних храмов, толстым книгам с серебряными застежками, к рассказам о дивных странах с нежными людьми, где не бывает войн и потрясений, где не слышно грубых слов; неясная тоска по потерянному миру серой пылью прикроет хуторок, но то и дело будут маячить в клубах острые, как пики, тополя, белые стены мазанок, будет звучать шепот бабок, отгоняющих болезнь, добрые, топорно рубленные, усатые лица дядьков станут глядеть неотступно и внимательно, выверяя твою преданность чернобыльским кормильцам-огородам.
Кто ты, Шурок? Этот вопрос будет повторяться, как верстовые столбы, на твоей дороге, какой бы длинной она ни была, и каждый раз ты будешь искать ответа, и только другие потом, позже, оценив все, что сделано тобой, ответят истинно и кратко.
Позже… позже. А загадочно объявившаяся в доме на Лукьяновке тетя, сестра отца, высокая дама в пикейной белой блузе со строгим воротничком, заставлявшим ее держать голову гордо и ровно, в пробитой молью длинной черной юбке, скажет однажды, озирая со своей мачтовой высоты ученика трудшколы Шурика Доминиани, робко застывшую за ним конопатую Сашеньку, а также Сергея, Андрея и Логвина: «Оу!.. Оу!.. Гамены!..» Тетя также внезапно исчезла, как и появилась, оставив для перешивки ворох старых, пахнущих нафталином вещей, последний дар фамильных сундуков, выброс исчезнувшего моря, но Шурок запомнит ее удивленный взгляд, ее вздохи, ее покачивание головой; потом, с мышиной настойчивостью грызя плохо поддающийся ему французский под надзором отца, он узнает смысл слова «гамен»: уличный мальчишка, беспризорник, в общем, брандахлыст. Ну да, они были для образованной тетки чем-то унижающим отца, случайным и нелепым, чем-то вроде мухи, неожиданно севшей на линзу телескопа и мешающей смотреть на звезды. И у матери, провожающей тетю и пытающейся вручить ей на дорогу домашние коржики из овсяных высевок, будет вид виноватый и жалкий, как у прачки. Тетя без имени, нечаянно обиженная сопливыми носами и выговором своих малолетних родственников, тетя, употреблявшая иностранные слова и втихомолку подъедающая холодную картошку на кухне, ты впервые заставила Шурку задуматься над странностью своего появления на свет; а еще позже, значительно позже, на собрании старшеклассников, обсуждавших Шуркино заявление с просьбой принять в комсомол, друг Митька, честный Митька, не вылезавший из латаной гимнастерки, скажет гневные слова о буржуйском происхождении товарища, но тогда это Шурку не удивит, потому что он уже узнает горячую, медленную боль синяков, полученных «за фамилию» в драке с лукьяновскими однокашниками, не имеющими иного зримого объекта для проявления пролетарских непримиримых чувств, кроме малых Домков. Мир, созданный среди оседающих пороховых облаков гражданской войны, заставлял Шурку то и дело вертеть головой в ожидании синяков куда более чувствительных.
И вот в кармане твоем греется кусочек холста, знак высшей братней веры, Микола Таранец, друг и товарищ, молчаливо и твердо ведет тебя опасным, но спасительным для отряда путем, едкий, злой молдавский парень Павло Топань, вдовец, не узнавший звона свадебных бубнов, дарит тебя колючим недоверием, а бывалый мужичок Коронат ограждает от лесной тоски своим философским спокойствием. Кто же ты теперь, Домок?
Читать дальше