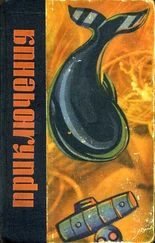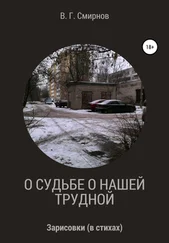— Зачем карта? — удивляется Павло.— Она у меня в глазах светится, эта карта…
— Хорошо. Сейчас мы ударим по заставе егерей и поднимем их. Вы немножко пойдете к краю болота, там сейчас туман немножко, ракета светит плохо. Надо только очень быстро. Они будут думать, что мы идём на большой прорыв. Ваши ребята из разведки уже получили коней и телеги. Они будут идти за вами тоже краем болота, немножко сделают шум. Егеря вцепятся в них. Вы должны очень быстро, очень. Хорошо?
В музыке певучих восточных интонаций невидимого Шурке командира роты Азиева рождается кривая боя. Сейчас все выглядит четко и изящно, бой извлекается из хитроумной головы командира, как сабля из ножен. Но Шурка знает, что с первым же выстрелом начнутся неувязки, неизбежные в таких делах. Кто-то забежит в темноте не туда, кто-то схватит шальную пулю, прольется кровь, может быть, много крови. Бой, даже отвлекающий, несерьезный,— это бой. Шурка чувствует, как стылая осень заползает под его вытертое, драное пальтецо. Он не первый раз идет навстречу свисту пуль; в партизанской жизни нет тылов, здесь фронт перевертывается и крутится, как лента бинта, сматываемая на пол. И все-таки зябко. Может быть, потому, что рядом мертвый Микола, а может, Шурке просто не дано привыкнуть к ближним схваткам, когда враг оказывается в пяти шагах и стрельба в упор подобна ударам ножа. Зябко, и только карман, где лежит письмо, написанное на холсте, греет сердце.
Упав, многих людей ты поднял на ноги, Микола…
— Курнуть бы,— стонет Павло.
— Две минуты под шинелью,— разрешает Азиев.
Они раскуривают одну цигарку на четверых, сунув головы под широкий брезентовый плащ Короната. Сладка горечь братски разделенного самосада. Партизанская табачная соска, от губ к губам, роднит их, как материнская грудь. То ли от сгустившегося дыма, то ли от этого острого чувства родства на глаза Шурки набегают слезы.
— А теперь идите к болоту,— говорит Азиев.— Немножко поспешите, хорошо?
Колеса начинают свой мягкий, приглушенный перестук по корням и колдобинам. Шурка вцепляется в край кузова и теперь идет скорым шагом, как привязанный. Отстать, отбиться — смерти подобно.
— Давай теперь не попереду, а за мной,— бухтит дядько Коронат, обращаясь к Павлу.— У тебя карта в очах, а у меня в ногах, ночью так оно получше.
Они шагают торопясь, прямиком через лес, и умная Мушка точно проносит свою тележку между стволами, не задевая ни один и минуя кусты. Папоротники, густо вставшие на дороге, хлещут по сапогам, пыль от созревших спор летит в ноздри табаком. Подошвы то и дело скользят на подгнивших и перезревших грибах. Земля постепенно размягчается, уводя куда-то к воде, сапоги погружаются в мховую гущу, как в перину. Темнота становится какой-то белесой, но вязкой и непробиваемой. Это туман примешался к ночи, как молоко к воде. Близко болото.
Где-то неподалеку ржет лошадь, и они останавливаются, прислушиваясь. Шурка сжимает в кармане «вальтер», большим пальцем нащупывает предохранитель. Впрочем, в случае внезапной атаки не его дело стрелять. Он должен успеть уничтожить или запрятать письмо. Что там, в стороне? Может быть, ягдгруппа просочилась к ним? С тех пор, как в лесах появились эти группы, молчаливые и самостоятельные в своих маршрутах, беспокойства у партизан во много раз больше. И внезапных смертей тоже больше.
Негромкий свист доносится оттуда же, где ржала лошадь. Это хитрый переливчатый свист, хорошо знакомый Павлу.
— Сейчас! — Разведчик исчезает бесшумно, сорвавшись, словно птица с ночного куста.
Мягкие сапоги уносят его к свисту. И сразу становится неуютно Шурке: рядом с Коронатом он как будто за старшего, но командовать он не привык. Он привык советовать.
— А я тут, пока Азий с Павлом толковали, колеса все геть тряпками поперевязывал,— успокоительно шепчет, касаясь рукой Шурки, дядько Коронат.— Запас я тут тряпок, старья всякого… Пойдем без гуркота, как шило в мыло… И копыта у Мушки обвязал.
Шурка благодарно сжимает руку Короната, твердую и угловатую, словно дубовый горбыль. О, этот рассудительный, неспешный дядько Коронат, партизанский выручатель, закутанный в плащ лесовик и очеретник из бабкиных хуторских рассказов. Сколько раз возникал он бесшумно и ненавязчиво, переводя на язык леса, трав, воды партизанские беды и нужды. Загнанных в чащобы товарищей он спас весной от вшивоты, разъедавшей тела язвами и мучившей хуже ран, тем, что рассовал белье по муравейникам, и за один день рубахи и исподники были вычищены от этих мелких карателей так, как ни одна прожарочная и пропарочная не справилась бы; в дикие бессолевые дни, когда вареная конина казалась сладкой отравой и не лезла в горло даже при общем голоде, Коронат разыскал горькие калийные удобрения, оставшиеся на колхозных полях, растолок в ступе засушенную полынь, посыпал конское мясо — и ничего, даже раненые, замороченные жаром и тоской, ели не давясь; а когда последние лошади были сглоданы, а майский лес не мог порадовать никакими харчами, варил суп из липовых почек; он показал, как пить воду из болотистой земли, выдавливая кулаком ямку и заталкивая тряпицу или бинт, чтобы нацеживалась туда, как в чашку, чистая влага; он научил партизан вытаскивать из трясины коней — не суетясь бестолково и матерщинно с жердями и веревками по пояс в грязи, а набрасывая на тонущих сбрую и пристегивая длинные, связанные вместе шлеи и постромки к лошадям, стоящим насуху, чтобы вытягивали, словно буксиром…
Читать дальше