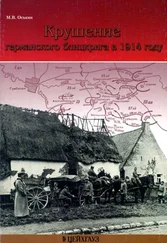Адам в дверях щерится.
— Господин генерал–полковник, я уже доложил вам. Есть мыло, но жесткое, как брусчатка. Эрзац–мыло…
Кое–как Паулюс побрился завалящим тупым лезвием. Порезал щеку, придержал ранку пальцем, пока не унялась кровь. Дурно ли побрился или хорошо — не знал; в зеркало потом не гляделся Говорят, глаза и лицо отражают душу. Но в душе Паулюса творится такое, что лучше не глядеть в зеркало, не видеть и не знать самому. Побрился и ладно.
Завтрак был строго ограничен самим генерал–полковником двумя–тремяйомтиками голландского сыра и чашкой кофе. Выходил из–за стола с пустым желудком. Кивнул адъютанту, чтобы подал шинель. «А он и вправду на передовую… Чего там делать?» — нахмурился Адам, боясь как черт ладана русских мин, но вынужденно смирился.
— Разрешите и машину подать? — предложил адъютант. — Быстрее обскочим позиции.
— Фронт, Адам, настолько эластично сузился, что и ехать некуда, — мрачно усмехнулся Паулюс.
Позиции начинались сразу от штаб–квартиры, размещенной в подвале универмага. Траншеи и окопы перемежались с бетонированными укреплениями. Там и тут по глубоким провалам бойниц угадывались доты, некоторые были разворочены русской артиллерией и бомбами: враскид лежали цементные трубы, в них теснились солдаты, выглядывающие пугливо из нор. Пробираясь через навалы кирпича и перекрученных лестниц, Паулюс неосторожно прикоснулся к железным перилам и тотчас отдернул пристывшие к металлу пальцы.
— Русский мороз имеет свойства кусаться. Возьмите, господин генерал, мои перчатки. Вы свои забыли… Я прошлый раз чуть руки не лишился, — пожаловался говорливый Адам.
— Без руки можно жить, Адам, — сказал Паулюс.
Адам усмехнулся:
— Прошлый раз с шефом санитарной службы говорил, так он отмечает, участилось обморожение этих самых… отростков… — помедлив, Адам притворно вздохнул: — И что будут после войны немки делать, где занимать мужчин…
Через развалины пролезли на передовые позиции. Напали на батальон особого назначения. И хотя остались от него рожки да ножки, майор Гофман, увидев командующего, гаркнул:
— Батальон, смирр–рна!
Перестарался, конечно. Паулюс заметил ему, что на передовых постах команду не следует подавать. Но в душе–то ему понравилось: бодрый голос, никакого уныния в глазах майора. Тут же велел Адаму оформить на майора Гофмана представление к награде.
— Разрешите оформить на медаль «За зимовку в России»?
— Какая, шут, зимовка! Крест, Железный крест ему. С листьями! Он заслужил…
Адам повторял: «Яволь» — и посиневшими пальцами записывал.
Забравшись на развалины водокачки, на глыбы сцементированных камней, Паулюс увидел неприятельские позйции: русские в дубленых полушубках и шапкахушанках ходили свободно. Двое затеяли меж собой потасовку в рукавицах, потом принялись валяться в снегу. «Играют», — позавидовал Паулюс, потом оглядел свои угрюмо притихшие окопы и сошел вниз.
— Господин майор, что это ваш солдат… Вон тот, — указал рукой в перчатке командующий, — как одержимый смотрит в сторону русских и не стреляет, даже не шевелится?
— Вернер, позови сюда, чего он глазеет. Опять… — Майор чуть было не проговорился, что взвод опять отлынивает.
Вернер прыгнул в окоп, подошел к солдату, накричал на него, даже пнул ногой, а тот по–прежнему сидел не шевелясь, лишь кивнул головой на ноги. Обер–лейтенант вернулся и доложил:
— Раненый… Костыли требует. Ходить не может…
— А этот? Тоже одержимый? Головой не тряхнет.
Что они у вас, как манекены? — спросил хриплым с: досады голосом генерал–полковник.
На этот раз побежал сам Гофман. С разбегу прыгнул в окоп, готовый от злости сесть верхом на спину солдата. Дернул его за рукав. Молчит. Стоит недвижимо спиною к Паулюсу, даже не оглянется. «Совсем от рук отбились, мерзавцы. Тут Железный крест дают, а они порядок нарушают». Майор резко толкнул прислонившегося к стенке окопа солдата: «Проснись!» И, к ужасу своему, увидел,.как солдат деревянно развернулся на одной ноге, другая была подвернута, и грохнулся о стенку окопа. Из–за бруствера командующему теперь видна была только голова до подбородка. Солдат был мертв и, казалось, впился в Паулюса застывшими, стеклянными глазами.
Плотно сжав нервные тонкие губы, Паулюс постоял молча в оцепенении. Ему померещилось, что вся его армия вот так застыла и окоченела в заснеженных окопах и траншеях, а он хочет кого–то позвать, кому–то крикнуть, но голоса не хватает, и с невольным внутренним страхом Паулюс ощупывает себя, шевелит пальцами одной руки — а жив ли сам?..
Читать дальше

![Василий Соколов - Привала не будет [Рассказы о героях]](/books/27316/vasilij-sokolov-privala-ne-budet-rasskazy-o-geroya-thumb.webp)