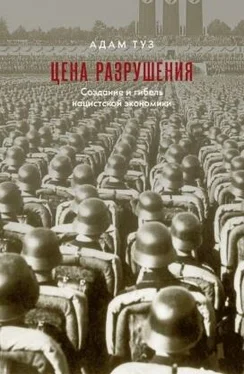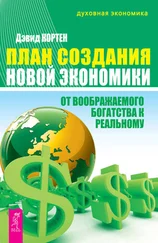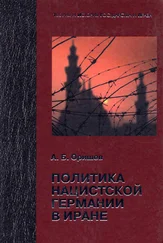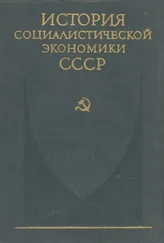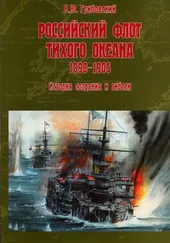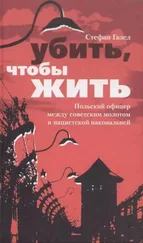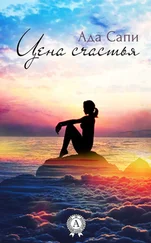В материальном плане последствия демобилизации масс проявились в дисбалансе относительной переговорной силы у работодателей и наемных работников [310] M. Schneider, Unterm Hakenkreuz: Arbeiter und Arbeiterbewegung 1933 bis 1939 (Bonn, 1999), 290–300; R. Hachtmann, Industriearbeit im «Dritten Reich» (Göttingen, 1989), 92–112.
. Фактически новый режим заморозил ставки заработной платы на том уровне, которого они достигли к лету 1933 г., и наделил правом их дальнейшего изменения региональных уполномоченных по трудовым отношениям (Treuhänder der Arbeit), чьи полномочия определялись Законом о контроле над национальной рабочей силой ( Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit ), принятом 20 января 1934 г. Нередко это рассматривается как однозначное проявление диктата деловых кругов, поскольку номинальные ставки заработной платы, преобладавшие в 1933 г., были намного ниже, чем в 1929 г. Однако с точки зрения бизнеса ситуация была несколько более сложной. Хотя заработки по отношению к 1929 г. снизились, вместе с ними снизились и цены. На практике депрессия очень незначительно уменьшила реальный фонд заработной платы [311] См. статьи К. Буххайма и Б. Эйхенгрина в: C. Buchheimetal. (eds.), Zerrissene Zwischenkriegszeit: Wirtschaftshistorische Beiträge (Baden-Baden, 1994), 97–122, 177–204. Однако следует также отметить, что, в отличие от других стран, в Германии во время депрессии не выросли зарплаты в реальном выражении.
. Если он и сократился, то не за счет снижения реальной заработной платы, а за счет увольнения части трудящихся и перевода остальных на неполную ставку. Тем не менее после произошедшей в 1933 г. заморозки заработной платы, сочетавшейся с разгоном профсоюзов и очень снисходительным отношением к картелизации бизнеса – к чему мы еще вернемся, – виды на прибыль, несомненно, были очень благоприятными. Хотя по мере сжатия рынка рабочей силы заработки все же понемногу начали увеличиваться, все указывало на то, что в ходе дальнейшего роста экономики они будут отставать от цен и прибылей. Но самым важным, вероятно, было другое: гитлеровский режим обещал дать немецким фирмам возможность самим разбираться со своими внутренними делами, освободив их от контроля со стороны независимых профсоюзов. Казалось, что в будущем размер заработков будет определяться производственными задачами, стоящими перед нанимателями – а не устанавливаться по итогам переговоров предпринимателей с рабочими [312] W. Bührer, «Zum Wandel der wirtschafts- und sozialpolitischen Zukunftsvorstellungen in der deutschen Industrie zwischen Weltwirtschaftskrise und Wirtschaftswunder», in M. Prinz and M. Frese, Politische Zäsur und gesellschaftlicher Wandel im 20. Jahrhundert (Paderborn, 1996), 81–104; W. Zollitsch, Arbeiter zwischen Weltwirtschaftskrise und Nationalsozialismus (Göttingen, 1990).
.
Именно в этом смысле Гитлер, придя к власти, выполнил обещанное им 20 февраля. А для тех мелких предпринимателей, которые работали, не выходя на международный уровень, период после 1933 г., несомненно, стал золотым временем авторитарного «порядка». Однако если мы ограничимся только этим аспектом, то получим крайне неполную картину. На встрече 20 февраля Круппу фон Болену так и не представилась возможность прояснить весь круг вопросов, волнующих немецкую промышленность [313] 11. O позиции Kpynna cm.: W. Abelshauser, «Gustav Krupp und die Gleichschaltung des Reichsverbandes der Deutschen Industrie, 1933–1934», Zeitschriftfur Unternehmens-geschichte , 47 (2002), 3-26.
. Если говорить коротко, упрощая ситуацию для ясности, то для более политизированных представителей германского бизнеса повестка дня мирного времени состояла по меньшей мере из двух отдельных элементов – внутреннего и международного. Внутренняя повестка дня носила авторитарно-консервативный характер, отличаясь ярко выраженной неприязнью к парламентской политике, высоким налогам, расходам на социальное обеспечение и профсоюзам. С другой стороны, в плане международных отношений германский бизнес стоял на намного более «либеральных» позициях. Хотя германская индустрия ни в коей мере не противилась установлению пошлин, ассоциация промышленников Рейха решительно выступала за экономический либерализм во внешней торговле: неограниченное перемещение капитала, мультилатерализм, режим наибольшего благоприятствования [314] Эта тема красной нитью проходила через все публикации ассоциации промышленников ( Reichsverband ) вплоть до начала 1930-х гг.: Stellung der deutschen Industrie in der Weltwirtschaft (Berlin, 1922); Deutsche Wirtschafts-und Finanzpolitik (Berlin, 1925), 20–21, 53-7; Aufstiegoder Niedergang? (Berlin, 1929), 15, 41-2; H. Kramer, Europdische Handelspolitik (Berlin, 1930).
. В случае тяжелой индустрии такая защита международной торговли сочеталась с идеями о создании европейских торговых блоков разных размеров [315] См.: R. Frommelt, Paneuropa oder Mitteleuropa: Einigungsbestrebungen im Kalkiil deutscher Wirtschaft und Politik 1923–1933 (Stuttgart, 1977). О «европейском» мировоззрении ведущих германских сталепромышленников см.: G. Mollin, Montankonzer-пе und «Drittes Reich» (Gottingen, 1988), 55-7.
. В таких важных отраслях, как угольная, стальная и химическая, международная торговля была организована в рамках формальных картелей, иногда имевших глобальные масштабы [316] См. анализ того, как создавался стальной картель, в: K. H. Pohl, Weimars Wirtschaft und die Aussenpolitik der Republik 1924–1926: Vom Dawes-Plan zum Internationalen Eisenpakt (Düsseldorf, 1979).
. Siemens и AEG поделили глобальный рынок электротехники, достигнув договоренностей со своими главными американскими конкурентами [317] G. Kiimmel, Transnational Wirtschaftskooperation und der Nationalstaat: Deutschamerikanische Unternehmensbeziehungen in den dreissiger Jahren (Stuttgart, 1995).
. Однако все эти организационные формы были выбраны немецкими бизнесменами и их зарубежными контрагентами по собственной воле, без какого-либо вмешательства со стороны государства. Можно говорить если не о либеральных настроениях в деловой среде, то по крайней мере о добровольной самоорганизации бизнеса. В то же время свободными от какого-либо картельного регулирования оставались многие сферы германской внешней торговли – в первую очередь это касалось текстиля, металлических изделий и машиностроения, причем ассоциация машиностроителей VDMA особенно агрессивно выступала за свободную торговлю.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу