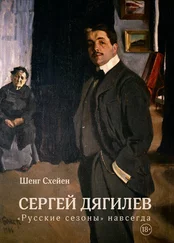«Ну да. Я же лопнул», — вспомнил Штукин и открыл глаза.
Все было как в тумане. Чье-то лицо, край палатки, ветка дерева, похожая на когтистую лапу орла.
— Где мои очки? — прошептал Штукин.
— Они на вас.
— А-а.
Он не знал, что еще сказать, и тут вспомнил, что стоял у стола, и они оперировали раненого в живот.
Штукин встревожился, попытался приподняться:
— Операция... Раненый...
— Все в порядке.
Из тумана выплыли глаза ведущего.
— Отдыхать. Поспать. Один час.
— Укол. Быстро. — Ведущий подошел к Виктории я поднял рукав своего халата: — Ну! Это, ж не наркотик. Тонизирующее.
— Поспал бы лучше.
— Ну! — Лицо его вспыхнуло, как фонарь.
Она знала: это признак крайнего гнева. Выполнила просьбу.
— Ты же знаешь, — произнес он в оправдание. — Это в исключительных случаях. Видишь, помоложе — и те не выдерживают.
Виктория молчала. А что она могла сказать? Она была в полном и всестороннем подчинении этого тридцатипятилетнего, здорового и сильного женатого мужчины. Он не обманывал Викторию, с первого знакомства сказал, что женат и ей не на что рассчитывать. Она и не думала о будущем, старалась не думать. С майором считались, его уважали, награждали, шли навстречу. А все, что выпадало ему, касалось и Виктории, поскольку она была с ним. К этому все привыкли как к необходимости. Помимо всего, она считалась толковой операционной сестрой. Ведущий хирург создавал и поддерживал её авторитет. Он многому научил Викторию, ввёл её в круг своих хирургических привычек и навыков, и теперь она являлась как бы частичкой его, а вернее — той машины, что называется хирургической бригадой. Самое главное в её деле было уловить момент, когда и что подать, «схватить мановение», как говорил ведущий. Практически это означало выиграть время. Ведь во время операции счет идет на секунды, и бывает, от них зависит успех, жизнь человека. Находясь у своего стерильного стола, она и улавливала эти «мановения». Если отвлечься от тяжелой сути любой операций, то ведущий походил на фокусника: он поднимал руку — и в ней оказывался нужный инструмент. Он произносил невнятный, непонятный другим звук — и ему подавали скальпель, или зажим, или иглу.
Он резал, пилил, шил, думая только о том, чтобы выполнить все как можно лучше. Виктория видела, как у него краснеют глаза от напряжения, как он устает и как будто уменьшается в росте, словно усталость давит и он оседает под её тяжестью. Но, странное дело, во время самой работы этого не было видно. Быть может, она была занята своим делом и не замечала его усталости, а возможно, сама операция захватывала его, придавала сил. Но в короткие перерывы, когда на стол подавали нового раненого, он расслаблялся, и она видела, что ведущий едва стоит на ногах.
— Сядь, — предлагала она, пододвигая ногой забрызганную кровью табуретку и чувствуя, как у нее самой подкашиваются ноги.
— После этой — на отдых, — приказывал он в ответ на её предложение, не поворачивая головы и не ожидая возражений.
Она и не возражала, зная, что это бесполезно, что это его рассердит, потому что больше всего он любит послушание. Только по шерстке, но попробуй хоть чуть-чуть против нее — он немедленно взорвётся.
«Болезненное самолюбие», — думала Виктория, глядя на его крутой затылок, на загорелую шею и на оттопыренное ухо.
«Жизнь меня таким сделала», — однажды сказал он ей.
А жизнь у Василия Малыгина была такая-этакая. Отца и матери не помнит. Воспитывался у дяди, сам-девятый. С голоду не умирал, но и ласки не видел. Добрых слов — на пальцах перечесть, а недобрых — горы. Дядя-то был ничего, только пил запоем, а жинка его, Евгения Пудовна, — злыдня. Когда Вася сказку о бабе-яге впервые услышал, то именно Евгенией Пудовной он и представил её, хотя благодетельница его была и не худа и на вид недурна собой. Но руглива, зла и жадна до лютости.
Заводилась из-за любого пустяка, из-за того, что курица снесла яичко не там, а зло вымещала на нем, на приемыше. Битым, в синяках ходил он с малых лет. Думал, уродом вырастет, неполноценным. Но нет, ничего, здоровяк, покрепче других вымахал.
Вот сейчас удивляются, чего он такой черствый, такой бессердечный, не погрустит, не заплачет, если товарища, даже друга убьют. А он все слезы, всю грусть, весь свой лимит еще в детстве истратил — все выплакал, все выстрадал. Наподдает ему хозяйка ни за что чем попадя, да еще и плакать не даёт:
— Замри, шмакодявка. Жрешь чужое да еще веньгаешь.
Читать дальше