— Ладно, тогда приручай своего, — обиделся Семячкин. — Будете с белками с ветки на ветку прыгать. И шишки на зиму прятать.
Ей все труднее отнекиваться от Марченко. Сколько раз корила себя за резкость по отношению к парню, придумывала другие слова, поласковей. А едва встретятся… Конечно, ей больше нравится Птахов. Но того ожидает в Мурманске Лора: жена — не жена, а все же… Да и строгий Птахов, ему и по службе не положено улыбаться: старпом! А Марченко свой — простой, терпеливый. И глаза у него хорошие: нежные, доверчивые. Нравится ей тоже — чего уж хитрить! Но поди ж ты… А все потому, наверное, что на судне она одна: избалована вниманием. Ну и характер… Не зря говорила, бывало, мать: тебе, Тоська, только с медведями жить — уж больно ты непокладистая, грызучая!.. Смеялась тогда, а выходит, мать оказалась права. Вон и Марченко приближается робко, неторопливо, словно не радуется встрече, а побаивается ее.
А тут Семячкин подзуживает со стороны:
— Слышь, Марченко, ты эту белочку держи на цепочке. Не ровен час на чужой мухомор позарится.
Балда!
Сигнальщик подошел будто бы невзначай, словно и не высматривал, когда девушка объявится на палубе.
— Устал? — посочувствовала она. — Глаза-то — как у трески.
— Есть немного… К концу вахты слезятся, а туман — сколько ни гляди, все равно дальше полубака ни черта не увидишь.
— Дурная у тебя специальность: все глазей да глазей! — выпалила Тося и тут же испугалась: «Опять, дуреха, за старое!» Но Марченко не обиделся, только пожал плечами.
— Почему дурная? Глаза и уши корабля, как пишут в газетах. А капитану, штурманам, рулевым, думаешь, легче? Туман — он и есть туман. — Разговор не клеился. И матрос, набравшись отчаянной храбрости, предложил: — Пойдем на корму… Там ветра меньше…
Затаил дыхание: догадалась ли, что зовет на корму потому, что там не только ветра меньше, но и людей? Но Тося безропотно побрела по палубе, лишь зябко повела плечиками, будто и впрямь обнаружила, что здесь, наверху, промозгло и сыро.
Присесть на полуюте оказалось негде: кнехты, бухты каната, рундуки со всякой боцманской всячиной покрылись противной скользкой влагой. Сигнальщик и девушка, прячась от холода и встречного ветра, притаились за кормовым, аварийным штурвалом.
За кормой, совсем рядом, шумела вода под винтом. Под ногами, под палубами, гудел, натруженно вздрагивая, гребной вал. И этот гул, шум воды отгораживал полуют, казалось, от всех иных корабельных звуков. Туман уплотнялся в стену сразу же за бортами, сверху он тоже нависал угрожающе низко, вровень с верхушками мачт — и все это, вместе с шумом воды и гудением вала, создавало впечатление оторванности полуюта от судна, затерянности во мгле глухой корабельной окраины. Марченко с Тосей чувствовали себя словно на острове… Это ощущение было настолько сильным, что девушка с испугом осмотрелась вокруг, сказала с опаской:
— Ежели что случится, так и останемся мы с тобой тут, вдалеке от всех…
— Ну и что ж, поплывем вдвоем дальше! — рассмеялся сигнальщик. — Штурвал у нас есть, винт останется тоже при нас — чего же еще? Так и догребем малым ходом до Мурманска.
— Болтаешь… — насупилась Тося.
Однако то, что она не сумела скрыть свою боязнь, пробудило, должно быть, в матросе чувство мужского, покровительственного старшинства. С той же шутливостью он вслух помечтал:
— Вот если бы мы очутились на острове! Представляешь? Хата из бревен, ты и я, а вокруг на тысячи миль — ни души.
— Чем бы я кормила тебя? — улыбнулась девушка.
В ее голосе Марченко уловил заботу о себе — хозяйственную, бабью, домашнюю, и это окончательно развязало ему язык.
— Ловили бы рыбу, стреляли тюленей… А одевал бы тебя в медвежьи шкуры. Зимой натопили бы печку, укрылись бы шкурами и целовались бы до утра.
— Это полярной-то ночью? Полгода?
— Ну и что… А летом носил бы тебя на руках по острову.
— В медвежьей шкуре?
— Нет, без нее. Чистенькую.
— Ну и языкатый же ты, а прикидываешься тихоней, — покраснела Тося. Потом внезапно со вздохом добавила: — Кабы вы, мужики, даровали хоть крохотку того, что сулите нам смолоду! Медвежьи шку-уры… Ты-то и медведя, должно, не видал отродясь.
— Еще увижу… — пытался шутить и дальше сигнальщик, но как-то сразу сник, стушевался: последние фразы Тося промолвила с раздумьем не девичьим — бабьим, старушечьим, словно на свете прожила добрую сотню лет и успела познать все возможные горести нерадостной женской доли. Жалость, нежность, готовность навсегда оградить девушку от каких бы то ни было печалей одновременно нахлынули на него. Он с тихим отчаянием выпалил: — Так я же люблю тебя!..
Читать дальше




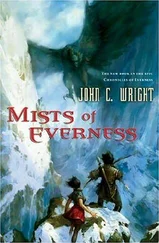

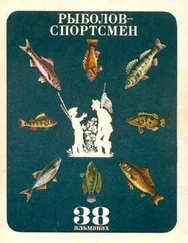

![Диана Билык - Сквозь туманы. Часть 1 [СИ]](/books/406926/diana-bilyk-skvoz-tumany-chast-1-si-thumb.webp)


