— Теперь каждую минуту могут поступить какие-нибудь указания, — словно оправдываясь за прерванный визит, вымолвил он.
У трапа с ним сухо поздоровался Митчелл. Лухманов замечал уже не однажды, что американцы и англичане недолюбливали друг друга. Как-то обмолвился об этом в кают-компании, и Митчелл, поморщившись, процедил:
— Они считают себя первой нацией мира, забывая, что у них все от нас: и язык, и способности, и культура…
В его словах прозвучала плохо скрытая ревность: англичане не терпят чьего-либо превосходства… Но Гривс не обратил внимания на сухость офицера связи, возбужденно думая совсем о другом. Он торопливо попрощался с Лухмановым и сошел в шлюпку.
А Лухманов с удивлением заметил, что все на «Кузбассе», не дожидаясь чьих-либо приказаний, занялись делом. Птахов проверял растяжки, которыми были закреплены на палубе танки, боцман опробовал брашпиль, расчеты возились у пушки и «эрликонов». Боевые корабли словно явились предвестниками добрых событий, и ожидать эти события сложа руки попросту стало невмоготу.
Очевидно, приподнятое настроение возникло не только на «Кузбассе»: с нескольких транспортов одновременно замигали в сторону причала сигнальные фонари, прося пополнить запасы пресной воды. А у самых бонов прохрипел внезапно в тумане корабельный гудок, словно пробуждаясь после долгой медвежьей спячки. Даже туман как будто начал рассеиваться. Небо посветлело, за пеленою влаги все чаще стали просматриваться вершины сопок. «К вечеру туман рассеется, — подумалось Лухманову. — А может, лучше пусть остается? Все-таки скрывает от посторонних глаз все, что происходит на рейде…»
Он приказал вахтенному собрать в кают-компанию штурманов и механиков, дабы выяснить, все ли готово к выходу в море, если вдруг тот последует в самое ближайшее время.
К вечеру туман действительно разошелся, исчез. Объявилось блеклое солнце, и мокрые сопки тускло поблескивали отраженным светом. Берега казались чистыми, вымытыми, и такой же прозрачностью открылся вдали океан. И тогда все увидели, как тесно в фиорде. В самой отдаленной глубине его, в закутке, окруженном со всех сторон кряжами гор и отгороженном от океана линией бонов, скопилось около ста кораблей — и военных, и вспомогательных, и торговых. Рейд напоминал внезапно возникший город, со своими улицами и переулками, пожалуй, только без площадей: для них не осталось места. Между частоколом судовых стеньг, над дымными трубами, над кварталами транспортов и игрушечными особнячками корветов возвышались то там, то здесь, как колокольни соборов, мачты крупных боевых кораблей, состоявших из множества рубок, командных и дальномерных постов, прожекторных мостиков и площадок. Все это плотно лепилось одно к другому, суживалось кверху и при известном воображении могло показаться чудом архитектуры.
Конечно, все в этот вечер торчали на палубах: после месяцев скучного однообразия эскадра выглядела все-таки новым зрелищем. Там бытовал свой уклад жизни, отличный от жизни на транспортах, на палубах кораблей то и дело собирались сотни матросов, а за всем этим наблюдать было интереснее, чем глядеть в переборки и подволоки кают. К тому же появление флота воскресило надежды на скорые перемены в судьбе конвоя, и потому всюду, где сходилось несколько человек, сразу же возбужденно и горячо высказывались догадки, предположения, даже расчеты. Жизнь как бы приобрела и новый смысл, и новую веру.
Потом наблюдали, как снялся с якоря линкор «Вашингтон» и, сопровождаемый четырьмя миноносцами, стал удаляться в море. С линкора еще долго передавали сигнальным прожектором какие-то тексты — ему отвечали с крейсера «Уичита».
— Что они передают? — поинтересовался Лухманов у Митчелла.
— Так, чепуху, — нахмурился лейтенант. — Упражняются в остроумии. У американцев даже флот — как это по-русски? — ба-ла-ган!
В каюту вернулся Лухманов уже поздно ночью. Минувший день казался ему удивительно длинным, словно состоял из нескольких разных дней. Сперва из туманного, слякотного, тоскливого, затем из второго, ясного. До прихода эскадры — и после… Эта кажущаяся бесконечность времени сама по себе утомила его. Но впереди ожидала ночь — бессонная, светлая и потому, должно быть, такая же долгая, как и день.
До чего же приелась обстановка каюты! И этот стол с различными графиками над ним, и огромный, слоноподобный судовой телефон, и графин с водой в штормовом гнезде, чтоб не разбился при качке, и мерно, едва слышно стрекочущие часы, стрелки которых оббегали черт его знает какой уже круг с тех пор, как суда отстаиваются в Исландии. Лухманов помнил каждую заклепку на подволоке и каждый изгиб узора на переборках, карнизы которых были расписаны под ценные породы дерева. Только портрет Ольги да коврик над койкой, вышитый ее же руками, не вызывали отвращения. Люди становятся моряками ради движения, простора и перемены мест; когда же судно приковано намертво к якорю, его помещения превращаются в кельи монахов.
Читать дальше




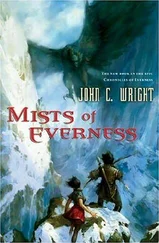

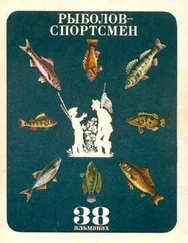

![Диана Билык - Сквозь туманы. Часть 1 [СИ]](/books/406926/diana-bilyk-skvoz-tumany-chast-1-si-thumb.webp)


