Сейчас, получив разрешение капитана подготовить кают-компанию для лазарета, он сразу повеселел, оживился и помчался разыскивать Тосю.
А Лухманов вернулся в каюту. Хотелось забыться, погрузиться в воспоминания об Ольге, чтобы хоть как-то отвлечься от досады и опасений, связанных с предстоящим выходом в океан. Беспечность английских морских чинов не давала покоя. Неужели не ясно, что секретность операции — половина ее успеха?
Моряки рассказывали, что досадные просчёты уже не однажды случались в английском флоте. Например, когда немцы оккупировали Норвегию. Прояви тогда британское адмиралтейство расторопность, решительность, хоть немного инициативы, направь оно в море крупные боевые корабли — немцы никогда не решились бы послать громоздкий морской десант к берегам Норвегии. Насколько свободнее и безопаснее в Северной Атлантике чувствовали бы себя моряки союзных судов, не будь в фиордах Норвегии германских военных баз! Прохлопали…
Высадка немцев в Норвегии, прорыв германской эскадры из Бреста, блокированного английскими кораблями, — не слишком ли много стратегических ошибок и глупостей? Кто же гарантирует, что нынешняя беспечность — не очередная глупость, подобная прежним?! Война никому не прощает ни легкомыслия, ни излишней самоуверенности.
…Думы, думы, думы… Лухманов искренне обрадовался, когда ему доложили, что к трапу «Кузбасса» подходит шлюпка с капитаном Гривсом.
С Гривсом он познакомился как-то на причале китобойцев, когда оба ожидали рейдовый катер. Лухманов говорил по-английски, и Гривс обрадовался собеседнику. Вскоре выяснилось, что их суда стоят рядом, и с этой минуты тесное знакомство двух капитанов, советского и американского, считалось само собой разумеющимся: соседи.
По утрам они поднимались на мостики и раскланивались. А время от времени навещали друг друга.
Гривс вовсе не походил на морского волка, хотя прошел нелегкий жизненный путь, пока выбился в штурманы, а затем — в капитаны. Повидал на своем веку и матросов-бродяг, и лютых боцманов, и шкиперов-самодуров. Другой на его месте давно бы ожесточился, но Гривса все это не огрубило, и он сохранил врожденную мягкость, даже застенчивость. Откровенно мечтал о береговом уюте, грустил по жене и детям и ждал лишь окончания войны, чтобы с чистой совестью оставить навсегда и море, и корабли…
Лухманов гостя встретил на палубе. В каюте Гривс опустился в кресло и стал набивать трубку. Извинился, как обычно, за внезапный визит, за то, что оторвал капитана «Кузбасса» от дел; словно оправдываясь, пожаловался на последние события, которые вызывают тревогу, и этой тревогой поделиться не с кем, кроме как с ним, Лухмановым.
— Англичане, как всегда, надуты и важны, самоуверенны до предела, и это, честно говоря, мне больше всего не нравится.
— Да, боюсь, немцы осведомлены о предстоящем выходе конвоя, — высказал сомнения и Лухманов.
— Конечно осведомлены, — спокойно ответил Гривс. — Думаете, на транспортах мало подонков? Многие ходят в такие рейсы только ради денег, а в каждом желающем поживиться прячется маленький предатель. Уж я-то знаю: родился и вырос на юге Штатов.
Лухманов английским владел не настолько, чтобы схватывать сразу все: и смысл, и оттенки. Поэтому фразы собеседника он мысленно тут же переводил, невольно придавая им русский, привычный лад.
— К сожалению, в Америке есть люди, которые сочувствуют Гитлеру и ненавидят нашего президента. «Помогать красным? Лучше не ссориться с Гитлером — через океан он до нас не дотянется!» А я побывал почти во всех портах мира и убедился, что планета не так уж и велика. Впрочем, такие люди, дотянись до них Гитлер, быстро нашли бы с ним общий язык. — Он примолк, точно раздумывая, стоит ли быть до конца откровенным с советским капитаном. Потом все же сказал, хоть и не так громко, как прежде: — Вы знаете, мистер Лухманов, что расовые проблемы в нашей стране чрезвычайно остры? А там, где есть место расизму, всегда появляется почва и для фашизма.
Лухманов слушал молча. Все, о чем рассказывал Гривс, было ему, конечно, ведомо, однако не хотелось комментировать откровения американца о собственной родине: опровергать собеседника он не мог, а согласие, выраженное даже в предельно осторожной форме, выглядело бы элементарной невежливостью. Для каждого человека родина, какие бы мрачные времена ни переживала она, все-таки остается родиной.
Должно быть, подобные мысли не волновали Гривса, потому что он продолжал непринужденно облегчать душу:
Читать дальше




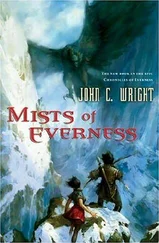

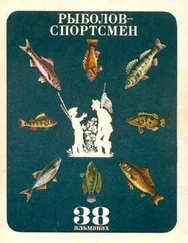

![Диана Билык - Сквозь туманы. Часть 1 [СИ]](/books/406926/diana-bilyk-skvoz-tumany-chast-1-si-thumb.webp)


