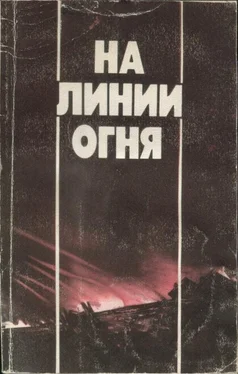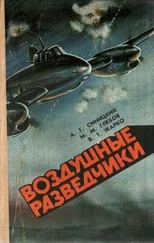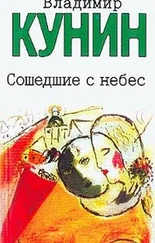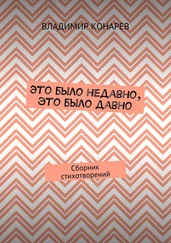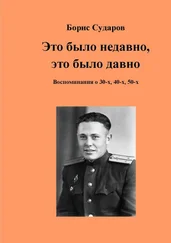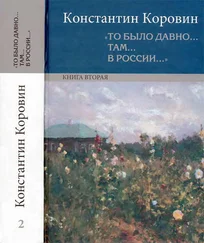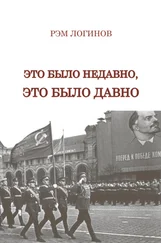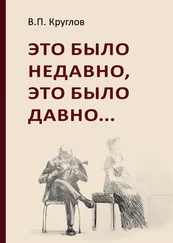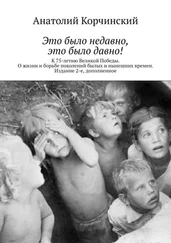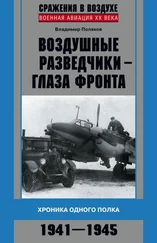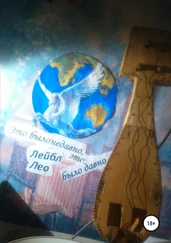Умерших и тогда, да и теперь, при мне, зашивали в мешок, клали в один-единственный общий гроб, отвозили на мусорной тележке за город, вываливали в яму и зарывали без всяких церемоний и проводов в болотистой местности, отводившейся ранее городом для закапывания павшего от эпизоотий скота и собак. Гроб возвращался в замок и ожидал «следующего» кандидата на столь упрощенные похороны. Я видел советское кладбище, отпросившись как-то с Петей Шульгофом и другими вырвать крапиву и подровнять траву на могилах. Нога вязла в болотистой почве.
Немецкий врач навещал изредка лагерь, ухитрялся принимать пятерых больных в течение одной минуты и ставил диагноз «на глаз», не прикасаясь к больному и не подвергая его обследованию. Нужных медикаментов не хватало или не было вовсе. Недосмотр со стороны врача или опаздывание медицинского вмешательства часто бывали причиной преждевременной смерти интернированных. Такой была при мне смерть очень молодого и образованного человека, сына советского дипломата 30-летнего А. Н. Смирнова, погибшего от дифтерита. Помню, как я с группой интернированных смотрел сквозь проволочные заграждения, в два ряда окружавшие лагерь в пределах стен крепости, как двое товарищей грузили дощатый некрашеный гроб с телом Смирнова на мусорную тележку…
Несколько случаев смерти от воспаления легких вызваны были… мытьем в «бане» — холодной комнате с разбитыми стеклами в окне, невероятными сквозняками и каменным полом. Та же «баня» служила нам и прачечной.
Я помянул о зеленых бельгийских шинелях. Не знаю, откуда добыло эти шинели гестапо или немецкое начальство вообще, только почти половина всех интернированных была одета в такие шинели. Вместо кожаных ботинок обувались в самодельные деревянные башмаки. Многие ведь сидели здесь или были арестованы с самого начала войны, многие увезены были из дома без всяких запасов, а потом связь с домом потеряли и за два-три года очень обносились. Другим хотелось сберечь хоть одну перемену одежды и обуви в приличном состоянии, чтобы было в чем выйти из лагеря по окончании войны. Так рассуждали, между прочим, и моряки, капитаны, механики и радисты, не говоря уже о матросах. Почти все интернированные охотно пользовались всяким старьем, предлагавшимся немецкой администрацией. Были и такие товарищи, которые щеголяли в собственных лохмотьях и полуразвалившейся обуви. И лишь очень немногие упорно и упрямо заботились о сохранении прежнего, «нормального» вида, брились и носили воротнички, которые сами стирали. В общем, вид лагерной толпы был, надо признаться, довольно жалкий, запущенный, бедственный, «архаровский».
Занятно было, когда по ночам, каждую ночь часу в первом, начиналось хождение скелетов по замку: лежа на своей постели, я слышал, как скелеты, грохоча костями, бежали один за другим по каменным плитам бесконечных коридоров, стремясь к какой-то им одним известной цели. И так продолжалось всю ночь, до утра.
Что же это были за «скелеты»? Это были 400 заключенных в замке, бегущие в одном белье и деревянных башмаках… в уборную, расположенную в самом дальнем углу замка — в подвальном этаже соседнего пустующего корпуса.
Как это ни неудобно касаться такой простой житейской темы, все же не могу не отметить того сюрреалистического и чуть ли не мистического впечатления, какое производили на меня эта ночная беготня и перестук «костей».
На первых порах пребывания в лагере мне отбою не было от лиц, желавших познакомиться и расспросить и о жизни в Праге, и о политическом положении в Европе, и о положении на фронте, и, наконец, о Толстом. Были среди расспрашивавших и молодые, и старые, и симпатичные, и не очень симпатичные люди, как, например, один чехословацко-германский обезьяньего вида банкир, по какому-то недоразумению попавший в наш лагерь. О нем говорили, что он был немецким шпионом. Подобное обвинение могло подтвердить то обстоятельство, что когда в 1945 году нас всех выводили из лагеря перед надвинувшимся почти вплотную американским фронтом, банкира выпустили одного за несколько дней перед нами.
Позже я убедился, что интерес к вновь прибывшим наблюдался во всех случаях, независимо от личности того или иного нового жителя лагеря. Люди слишком засиделись взаперти, в очень ограниченном кругу, чтобы живо не интересоваться всем, что происходило за пределами этого круга.
Чтобы не повторяться в рассказах о Толстом, я предложил капитанам устроить лекцию о великом писателе. Но об этом узнали другие заключенные, и уполномоченный интернированных капитан Филиппов (он жил не в камере № 12, а в отдельной комнате) добился от комендатуры разрешения устроить лекцию о Толстом для всех интернированных. Лекция состоялась на дворе замка на полянке, окруженной деревьями, в воскресенье 27 июня 1943 года, когда все матросы были дома. Я рассказывал о своем знакомстве с Л. Н. Толстым, о Льве Николаевиче как о человеке, об его уходе и смерти. Не уложившись в намеченное время, продолжил свой рассказ в воскресенье 1 августа. Слушали жадно.
Читать дальше