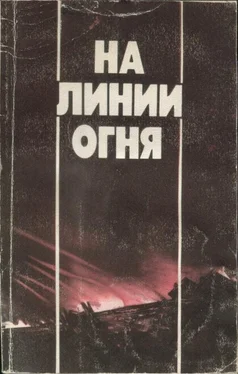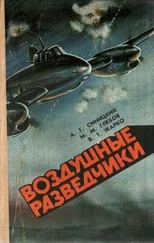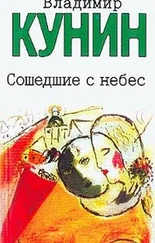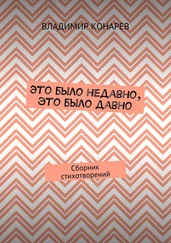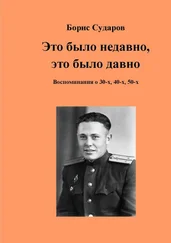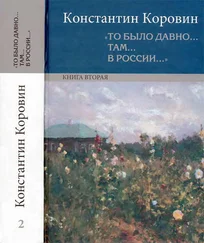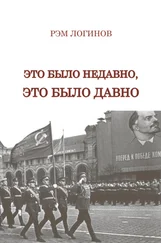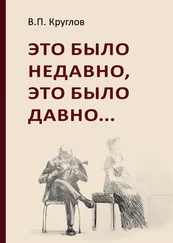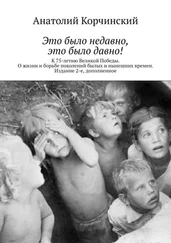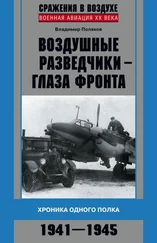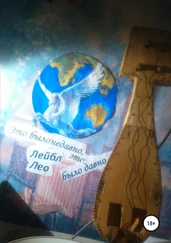Жажду знания вообще я скоро заметил и у «морской» молодежи, и у более старших представителей мореходного дела.
У обитателей нашей камеры, капитанов и других, была привычка, улегшись вечером спать, требовать от кого-либо из присутствующих, и преимущественно от трех старших представителей «интеллигентных профессий», прочтения лекции — лекции на любую тему. А. Ф. Изюмов прочел лекции на целый ряд тем из русской истории. А. В. Стойлов рассказывал о переживаниях в эпоху гражданской войны, в которой он принимал участие в качестве командира советской дивизии. Я говорил то о Толстом (в новых по сравнению с прочитанной лекцией аспектах), то о встречах с Шаляпиным, то о Ганди и об освободительном движении в Индии, то о своих лекционных поездках в разные страны. Выступали и некоторые другие из обитателей камеры № 12. Например, врач рассказывал о некоторых интересных случаях из своей медицинской практики.
Наряду с любознательностью я бы назвал еще главную положительную черту у моряков, содержащихся в лагере, в частности и в особенности, у всех молодых моряков: это их советский патриотизм . Он выражался прежде всего в страстном желании победы Родине на войне, в постоянных воспоминаниях о родном крае, в гордости достижениями советской эпохи, в пении советских песен и т. д.
Советские песни пелись и хором, и солистами или, точнее, солистами в сопровождении хора на дружеских вечеринках в одной из самых больших комнат. В этих случаях середина комнаты освобождалась от трехэтажных стояков с койками, которые без промежутков тесно устанавливались у стен вместе с теми стояками, которые уже стояли там раньше. Посредине комнаты ставились стулья и скамьи для слушателей, хотя большая часть этих слушателей помещалась как раз на стояках , на койках: в «ложах» «бенуара» и «бельэтажа» и «на галерке», — по большей части, даже не сидя, а удобно развалившись.
Меня особенно удивляло, что матросы с воодушевлением распевали не только старые, общеизвестные, но и современные и даже возникшие уже только в эту войну песни вроде знаменитой «Катюши». Проникла-таки «Катюша» какими-то путями в лагерь интернированных советских граждан, арестованных с начала войны!..
Краснощекий и голубоглазый матрос-тенорок Малаханов отчетливо «подавал» слушателям модную до войны, сложную и любопытную в ритмическом отношении песенку «Чилита».
Другой матрос, талантливый Миша Мудров, захватывал лагерную публику проникновенным исполнением «морской» песни «Раскинулось море широко…».
Против устройства таких вечеринок немцы не возражали. На вечеринках, кроме хора и солистов, выступали декламаторы и эстрадные артисты. Среди последних особенно выделялся одессит Жора Филиппов. Из певцов надо еще назвать оперного артиста Якова Ефимовича Ярова, обладателя мощного баса с красивым баритональным тембром. Одно время он состоял в лагере также дирижером хора, в котором и я участвовал. С хором пел я народные песни: «Всю-то я вселенную объехал», «Вот мчится тройка удалая», «Последний нонешний денечек». Пел и романсы Глинки — к сожалению, без аккомпанемента, а значит, во всяком случае, нехорошо .
Соглашался я на участие в этих концертах с натугой, но все же не решался совсем отказываться, полагая, что если я певал в разных собраниях на свободе, то уже не могло быть оправдания для моего отказа петь перед людьми, лишенными свободы .
Кстати, певец Яров, состоявший до начала своей оперной карьеры присяжным поверенным округа Харьковской судебной палаты и старшиной литературно-художественного кружка в Харькове, был исключительно милым и интеллигентным человеком. В Русском культурно-историческом музее в Праге имелся его портрет работы берлинского художника Л. Голубева-Багрянородного. Меня А. Е. Яров при первом знакомстве подкупил знанием Толстого вообще и, в частности, знанием моего яснополянского дневника. За все время совместного пребывания в лагере мы поддерживали самые теплые, дружеские отношения.
С Яровым я отводил душу, когда мне надоедали некоторая грубоватость «людей моря», замкнутость их в своей сфере (замкнутость, которой не могли разбить и вечерние «лекции»), а также пристрастие их, особенно молодежи, к специфически «морской» фразеологии.
Любопытно, однако, на каком положении Ярова держали в лагере. Обитатель одной из еврейских комнат с тремя десятками сожителей, вечно шумной и грязной, по вечерам полной табачного дыма. Каждое утро на аппеле он вызывался Вельфелем вместе с пожилым сыном или племянником киевского богача Бродского (тоже чудесным, мягким, незлобивым человеком) на черную работу: чистить уборную и вывозить в бочке на тачке нечистоты, собирать камни, подметать огромный двор. Выходил на работу согбенный, с худыми, бледными щеками, заросшими щетиной, с огромными фурункулами на шее, в старой обтрепанной бельгийской зеленой шинели, в какой-то потерявшей всякую форму шапчонке на голове, с обмотанными тряпьем ногами, в высоких и грубых деревянных башмаках, и покорно выполнял предписанное, подчиняясь тяжелому и неотвратимому ярму.
Читать дальше