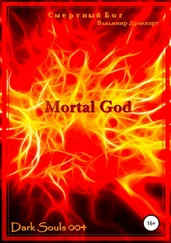— А что? — удивляется в свою очередь Ткаченко.
— Как что? Ты кому об этом рассказываешь?
— Я не рассказываю, — говорит Ткаченко. — Напоминаю. Помнишь, Багратион?
— Так ведь все не так было, — еще тише говорит Ларкин.
— Как это — не так?
Минуту Ткаченко молча и потрясение смотрит на Ларкина, потом переводит взгляд на каждого из сидящих за столом и снова поворачивает голову к нему же.
— А как же, по-твоему, было? — спрашивает он без задора.
— Не по-моему, а на самом деле. Мне же сам Борис тогда рассказывал. Подошла рота к этому селу, где был только румынский гарнизон. Предъявили ультиматум. Они сдались. И все…
— Ну Борис мог это по скромности, — высказывает неуверенное предположение Чигринец.
Некоторое время все молчат. Ткаченко напряженно старается то ли что-то понять, то ли что-то вспомнить. Потом он говорит:
— Нет, ребята! Это точно, что Борис на башне сидел в офицерской фуражке. Только и впрямь так ведь было дело, как Ларкин говорит. Что же это я? Отродясь ведь не врал. Нету такого у меня заведения. А тут, понимаешь… Привык, что ли, к этой истории? Приглашают пионеры: расскажи им про войну. На погранзаставе для молодых солдат тоже просят сделать выступление. А чего рассказывать? Как ведешь колымагу? Как сам в коробке от болванки горишь? Хочешь им про интересное рассказать. А чего такого интересного мог я в свой узкий триплекс наблюдать? Ну, видать, слова сами собой и складывались в интересный боевой эпизод. А там и сам в эти слова поверил. Да ведь как поверил — больше чем в правду.
— Так то ж и есть правда, — говорит спокойно Чигринец. — Город ли то был або село — нема разницы. Так его взяли или по-иншему — опять не то важно. Наиглавнейше — взяли! В том и есть правда. А что трохи не так дело было — в том нема вреда.
— Вреда, может быть, тут особого и нет, — задумчиво говорит Ларкин. — Но почему мы мифы создаем? Я думаю, оттого, что считаем свою фронтовую молодость самым значительным временем нашей жизни. Ну и украшаем невольно свое прошлое.
— Ты, Суворов, не тушуйся, — весело говорит Султанов приунывшему Ткаченко. — Я сейчас подумал и понял, что тоже, когда про войну рассказываю теперь, немножко баланды прибавляю. Черт его знает для чего. И Женя, наверно, так. И даже сам историк товарищ Ларкин. Ну сознайся, Ваня, по-дружески!
От этих слов неловкость сразу проходит, все смеются и для полного преодоления минутной разобщенности дружно лезут в миску с клубникой. Ягоды сладкие, их тонкий аромат создает во рту ощущение свежести, нежности и покоя. Ткаченко зажимает губами огромную клубничину, отрывает пальцами ее зеленый звездчатый хвостик и, давя языком водянистую мякоть ягоды, даже зажмуривается на секунду от удовольствия.
— Эх, хорошо тут жить, — говорит он. — Не зря наши сибирячки, особенно молодые, сюда бегут…
— А тебя самого на батькивщину не тянет? — спрашивает у него Чигринец.
— Моя батьковщина — Уссури, Амур-батюшка. Деды, прадеды наши там для нас выбрали место жительства. У нас, у нынешних, украинского только что фамилия осталась. Не на батьковщину их тянет: они и на Кавказ, и в Прибалтику, и к ним вон в Узбекистан тягу дают.
— Верно, — соглашается Султанов. — Сибиряки у нас есть. Что сделать? Рыба ищет где лучше…
— Так разве у нас хуже? — удивляется Ткаченко. — Простор какой. Леса. Рыба. Караси — во. В два раза больше, чем у вас в Европе. Нет, они не где лучше ищут — где полегче да повеселей.
— Молодь, — говорит Чигринец, и в голосе его звучит не то покровительственное снисхождение, не то осуждение.
— Так что же, что молодежь? — удивляется Ткаченко. — Мы в их годы не искали, где полегче да повеселей. Воевали. А они, черти, ведь дезертируют. Работать у нас в Сибири в сельском хозяйстве кто будет? Не с кем же работать. К севу технику не смогли всю отремонтировать. А кто народ кормить будет?
— Эх, друзья мои, — говорит со вздохом Ларкин. — Неужто мы уже все стариками совсем стали? Это ведь стариковский обычай — вспоминать, какие мы хорошие были, да нынешнюю молодежь ругать. Старо это, как мир.
— Зря ты, Иван Андреевич, споришь, — резко обрывает его жена. — Прав, конечно, Евгений Тарасович. Никудышная нынче молодежь. Боишься ты правде в глаза смотреть…
— Не надо об этом, Нина, — мягко просит ее Ларкин.
— Не хочешь правду у себя под носом видеть, — упрямо продолжает Нина Харитонов-на. — Закрываешь глаза, что в твоем собственном доме живет садист и изверг.
— Нина, ну прошу тебя, — уже с мольбой в голосе говорит Ларкин. Его круглое, чуть одутловатое, испещренное морщинками лицо выражает душевное страдание.
Читать дальше
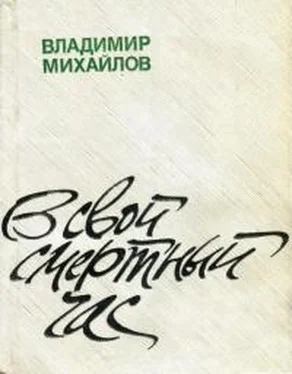







![Владимир Упоров - Смертный Бог [СИ]](/books/411019/vladimir-uporov-smertnyj-bog-si-thumb.webp)