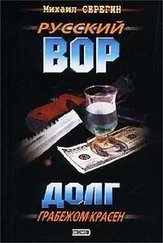Как весна-то пошла — это уже в пятьдесят третьем было, — я не вытерпела. Схватила Толю годовалого, закутала его в мамин пуховой платок, схватила, чего было под рукой своего, да и прибежала к Коле в Амбу по той дороженьке, по какой он ко мне бегал… Нашла тот домок, на который он указывал, ночь была, ветер, черно хоть глаз коли, прибегла со своим грехом да с малым дитем. Стучусь, ставни закрыты. «Кто?» «Коля, милый!..» — кричу ему…
Меркулов видел это… Сырая ветреная ночь, черная изба с одиноким в ней человеком, глухое окошко, и женщина возле него, для которой ничего нет во всем мире, кроме этого окна. Он видел, как сквозь трещины в ставнях засветилось в избе, и было тихо некоторое время, только сырой ветер свистел, а потом засов на воротах громыхнул, человек подошел к женщине, и они вместе пошли в избу.
— И ведь хотя бы раз слово сказал, вспомнил, — продолжала Груня, и было неясно, то ли она довольна этим, то ли в упрек ставит Николаю легкость, с какой он принял ее.
— А вы, Груня, сами вспоминаете Колымань-то, вашу старую жизнь? — невольно вырвалось у Меркулова. Ему почему-то важно было знать это.
— Ну-у! — неопределенно воскликнула она. — Он, Кусков, приходил, просил, чтобы вернулась. Толю грозился отнять. Трезвый, правда, ничего не скажу. Да ведь уже не склеишь. Коля говорит, как хочешь, а я злюсь на него. Я ножом отрезала. Да уж и Толька-то к Коле прирос — он отца и не знал своего, — его не отымешь… — с твердостью, с одобрительной лаской к сыну сказала Груня. — Слышала, в Кочугуре сейчас Кусков, в районной сельхозтехнике, какой-то начальник, — продолжала Груня. — И семья вроде бы есть, без семьи нельзя. Как живет, не знаю. Может, на мне его пьянство и кончилось, погас огонь, который его жег. Я ему зла не хочу.
— Анатолий знает?
— И-их, Всеволод Михайлович! — удивилась Груня. — У нас деревня, нешто утаишь? Да он у Коли на руках вырос, Коля его отец, — снова с большой убежденностью сказала Груня.
Они замолкли и долго сидели молча, пока не послышался топот на крыльце: кто-то снег обивал.
— Ну вот, приехал, — сказала Груня облегченно, просветлела вся. — Маринки что-то нет долго, беда, надо искать идти.
Но Маринка уже входила в избу, раскрасневшаяся на ветру, а за ней шел Николай, потирая рукой коричневое лицо.
— Ты где это бегаешь, заноза? — напустилась Груня на Маринку и стала развязывать на ней платок.
— Я папу встречала! — обиженно крутилась Маринка в руках Груни.
— Вот уж около моста встрела, гляжу, стоит Марина Николаевна! — говорил отец. — Загуляло на дворе, давно ждали! — ухмыльнулся он. — Вот тебе весна, Победа, а, Михалыч?! Куда! Ну, ничего, это последнее издыхание у зимы. Самовар ставь, Грунь, погреемся.
— Нинка-то не замерзла в сапожках лаковых? — О Нинкиной юбчонке Груня не сказала.
— Заморозишь ее! Домой побегла, нынче третью серию по телевизору показывают.
— Ну, у нее все серии в голове, — сказала Груня с обидой. — Зашла бы погрелась. Целовались, что ль, на прощание-то?
— Об этом история умалчивает! Тебе все надо знать! — ласково говорил жене Николай. — Ты, Михалыч, как, на вечернюю зорю думаешь?
— Не знаю… — Меркулов и в самом деле не знал, как быть.
— Да будет вам, что за нужда на ветру сидеть, давайте лучше чай пить! — разрешила его сомнения Груня.
— И правда! В весну утром не возьмешь, вечером не надейся. — Николай почуял сомнения Меркулова. — Утром завтра посидишь, а потом по озера́м пройдем. К обеду возьмем, неправда! Завтра праздник, отметить полагается.
— И ладно, — сказала Груня.
Вечер быстро накрыл Амбу. То ли чай разморил всех, то ли третья серия телевизионного фильма утомила — рано легли спать. А скорее всего, была в избе какая-то пустота после отъезда Анатолия. Он хоть ни одного вечера не посидел дома, с родителями, но все же был здесь, будто дух его витал в избе, даже само ожидание, сама тревога Грунина, ее недремотные, обидные вздохи поздними ночами наполняли комнаты его вещественностью. А теперь была пустота, которая не скоро заполнится иными заботами и тревогами.
Меркулов лежал на своей жесткой койке в темноте; ребристо скользила под головой набитая соломой подушка. Он не спал. От окошка тянуло приятной свежестью, простыни казенно пахли стиранным. За окошком посвистывало, то и дело будто дробью ударяло по стеклу — ветер наносил сухую снежную крупку. Бессвязное что-то толклось внутри Меркулова — то картины Груниного ночного бегства из Колымани в Амбу вставали перед ним, то сцены этой самой третьей серии… На экране была война, работа наших разведчиков, было что-то игрушечное в красивых немецких мундирах, в ночных шоссе, идущих под автомобильные колеса, в нарочито обнаженных сценах драк, снятых по последним модам голливудских боевиков… Николай осоловело смотрел на экран, стараясь, видимо, уловить хитросплетения сюжета, а потом крякнул с досадой:
Читать дальше




![Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]](/books/202576/mihail-gorbunov-belye-pticy-vdali-roman-rasskazy-thumb.webp)