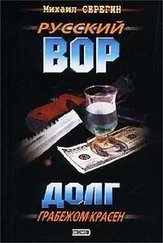И вот теперь будто тоненький проводок протянулся от этой его одинокой заброшенности к уюту светлой городской квартиры, и красивое лицо Ольги Павловны вставало перед ним вперемежку со сценами Груниного бегства из Колымани в Амбу. «Когда это началось? — пробовал продраться сквозь частокол мыслей Меркулов, теперь уже видя Ольгу Павловну и Любочку за тихой вечерней беседой. — Тогда?.. От этой истории с молодым талантливым хирургом? Или раньше?»
Меркулов нащупал на тумбочке сигареты и зажигалку, закурил, жадно затягиваясь и чувствуя, как колотится сердце. И веселые домики, сарайчики, голубятни сбегали к неширокой, теплой в солнечном дне реке, к ребячьему визгу и стуку вальков, и погромыхивал под копытами неторопливых лошадей старый деревянный мост. Потом шли сиротливые, продутые ветрами рощицы, сожженные, запустевшие деревни, разбитые взрывами дороги, и запах окалины доносился от покореженного огнем металла, и смрад шел от разбросанных снарядами трупов. И в этих жестоких картинах был Меркулов молод, и он сам чувствовал дразнящую свою молодость, было все ясно, и никакая булыжная боль не проламывала ему голову…
«А может быть, — ужаснулся он от этой впервые прошившей его мысли, — может быть, я во всем виноват сам, я сам виноват во всем?» Нет, он не чувствовал в себе вины. Скорее, он смутно начинал чувствовать вину судьбы, обманувшей и его, и Ольгу Павловну давным-давно, в самый первый день их знакомства.
Он испугался этой мысли, потому что она положила бы конец его боли, за ней была пустота, неотвратимо отсекались все прожитые с Ольгой Павловной годы. Он весь бунтовал против этой мысли.
«Да, да, надо спать, спать, — сказал себе Меркулов, лихорадочно тыча сигарету в пепельницу, чтобы затушить, — надо спать».
Он проснулся с тупой болью в голове, а тело было расслаблено, и какая-то старческая сухота стянула лицо. Обрывки мыслей, с которыми он засыпал, нелепо и суетно толклись в нем, и через них шло единственное желание — поскорее выйти на воздух. Он зажег свет в сенях, наклонил висящий на проволоке чугунный умывальник с двумя дульками — ледяная вода обожгла лицо — и тут же подумал, как, должно быть, холодно сейчас на Линево, в одиноком скрадке. На какое-то мгновение он заколебался — плюнуть на охоту, доспать, встать, когда уже солнце прольется в окошки; снежный шорох за стеной стих, и Меркулов, еще не выходя из дома, знал, что сейчас ясно и звездно. Но он понимал, что уснуть уже не сможет, понимал, что ему нужно переломить себя и тогда он уйдет от этих по-мышиному снующих в нем мыслей.
Меркулов вышел на крыльцо и увидел: белые полосы во дворе, как холсты, извилисто протянулись из конца в конец под лунным и звездным светом. Большого снега не было ночью, сухая крупка прошла по двору извивами. Вдали, над Колыманью, светилось бледное зарево, исходящее от станционных электрических огней. «Завтра домой», — смутно шевельнулось в Меркулове, и он зашагал, чувствуя под ногами хрусткую твердость, к воротцам.
Он шел и все глядел на бледное зарево, и то неясное, что шевельнулось в нем, начало обретать теперь вполне реальную суть, и Меркулов отчетливо понял, что ему нужно именно ломать себя вот так, как минуту назад он переломил в себе нежелание выйти из дома в холодное утро… Он возвратится к своему делу, без которого не представлял себе жизни, и душой обернется к жене, к дочери — в нем уже начинала действовать невольно усвоенная им мера, с которой должно вершить суд над собой и над всем, что тебя окружает, — мера добра. Все, что мучило его ночью, пока он не заснул коротким тревожным сном, уходило теперь, он весь как бы зачинался вновь в этом ощущении встающего над землей ясного весеннего утра.
В далеком зареве огней был для Меркулова некий символ, и все, что вошло в него здесь, в Амбе, говорило ему: жизнь идет вперед, потому что в ней преобладают законы, движущие ее, и человек не может стоять в стороне от этого непрестанного движения…
Он спускался с угора к протоке, пропастно чернеющей между припорошенных снежной крупкой берегов; далеко разносились его сдерживаемые на крутой тропе шаги, весло шурхало в побитой изморозью сухой светлой траве. Ожидание предстоящей охоты томительно и властно входило в Меркулова.
Обласки с бортами, тоже светлыми от изморози, зовуще ждали на черной воде.
Меркулов услышал осторожное поскребывание весла о борт и, уже зная, что подплывает Николай, посмотрел в ту сторону, увидел его небольшую ладную фигуру, слитую с обласком. Лодка медленно и ровно шла вдоль берега к скрадку, слегка ныряя носом от движения весла; вот эта слитность, удобность Николаевой посадки всегда восхищала Меркулова — он еще никак не мог свыкнуться с тонкостенностью, скорлупочностью обласка и размещался в нем с некоторым страхом. Подсадная утка, завидев Николая, начала издавать утробные звуки, видимо, в предчувствии скорой обратной дороги домой и кормежки.
Читать дальше




![Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]](/books/202576/mihail-gorbunov-belye-pticy-vdali-roman-rasskazy-thumb.webp)