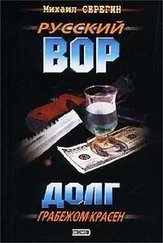Эта картина отчетливо встала перед Меркуловым — наверное, от неуютности одинокого сидения в скрадке, — потом он вспомнил вчерашний вечер в Николаевом доме, вечернюю беседу за столом, и чувство, похожее на зависть, шевельнулось в дальнем уголке души, но было это так мимолетно, что тут же прошло.
Меркулов работал ответственным секретарем областной газеты, а тому, кто знает газету, не надо говорить, что это за работа. И однако же Меркулов любил свое дело. Он любил красиво сделать номер, чтобы все было броско, но без той крикливости, которая, он был в этом убежден, есть дурной вкус, провинциализм и лишь компрометирует серьезный печатный орган. Он был по-газетному цепок, умел оценить дельную статью либо увидеть в ворохе информационного материала тусклое с первого взгляда стеклышко, которое, будучи вынесено на свет, на видное место газетной полосы, оказывалось бриллиантом.
Он не хотел признаться себе в этом, но испытывал самолюбивое чувство власти над своим делом, в котором пересекались все нити газетного бытия; рабочие типографии любили его как человека, который хорошо понимает все премудрости наборного и печатного дела, а сотрудники редакции побаивались трезвого ума и точных оценок Меркулова, сквозь которые не проскочишь с какой-нибудь невинной халтурой.
Его считали газетным зубром. И не без оснований, потому что если порыться в архивных подшивках газет, тех пожелтевших уже, рыхлых от времени газет военной поры, набранных боргесом — этот шрифт сейчас уже почти забыт, — то в них под фронтовыми корреспонденциями часто можно встретить фамилию Меркулова. Но сам он никогда не вспоминал о той поре, даже вот недавно, в День печати, на скромной редакционной пирушке не захотел уступить настойчивым требованиям молодежи рассказать о «самом забавном случае» из жизни военного корреспондента.
— Всеволод Михайлович, голубчик, мы же не на совещании в обкоме, тряхните стариной, это им будет полезно, — рокотал, вступаясь за молодежь, главный редактор, пожилой, располневший человек. Он сидел во главе стола, снявши ввиду демократичности момента пиджак и оставаясь в чистой белой нейлоновой сорочке и опять-таки вполне приличествующих случаю тонких заграничных помочах.
— Полноте, Павел Иванович, — смущенно улыбался Меркулов. — Решительно не помню ни одного забавного случая. Да ведь как-то и не до забав было…
Перед его глазами проносилась расквашенная непогодой дорога с обломками повозок и автомашин на обочинах, с черными глыбами танков, от которых остро тянуло окалиной, серые, продутые ветрами перелески, ночные европейские города, темные, каменные, настороженные. Там была его молодость — испятнанные взрывами снежные поля, ночи в сырых блиндажах с корреспондентской братией, где чадит снарядная гильза и на печурке греется крепкая чайная заварка. Но он берег в себе свою молодость, было в этом что-то интимное — Меркулов еще не достиг того возраста, когда наступает ревнивое чувство к «нынешней молодежи», неодолимая потребность вспомнить, поучить на своем опыте.
— Ну, голубчик, как знаете, — пожал широкими плечами главный редактор. — Давайте-ка, други мои, выпьем вот за что. Помните, есть у нашего земляка, сибирского поэта, такое стихотворение — «Шпалы»…
— «…Мы врывались в грозу, нас давили и войны, и горе. Пусть лежим мы внизу — разве мы не похожи на горы?..» — восторженно подхватил юный литсотрудник, большой знаток поэзии, мгновенно выискав в стихах именно те строки, которые в данном случае были нужны главному редактору.
— Да, други мои, так сказать, без всякого подтекста выпьем за людей, которые рвались на фронт, но должны были здесь, в глубоком сибирском тылу, складывать фундамент победы. «…Мы б шумели лесами, но кто бы лежал под колесами, под крутыми откосами, под снегопадом и росами, кто бы нес на себе поезда из огня и металла?..»
Меркулов не был коренным сибиряком, жил здесь всего с десяток лет, однако же успел накрепко полюбить эти края, решив остаться в Сибири до скончания века своего.
Как-то осенней порой Павел Иванович пригласил его на охотничье угодье, километров за шестьдесят от города. Ехали еще несколько человек из редакции — как раз открывался осенний сезон, и какой же охотник усидит в это время дома! «А что, разомнусь и я немного», — решил Меркулов.
На место приехали поздно вечером, наскоро поужинав, легли спать, а утром Меркулов был поражен картиной, которая открылась ему с высокого угора, где стояли потемневшие от времени срубы Амбы. До самого горизонта уходила цепь озер с темными островками куги, по-осеннему ярко голубела вода, словно большие осколки неба пали на широкую землю; левее, через луговину с травой, в последний раз жгуче, без оглядки зеленеющей, был виден лес, и в нем бушевали осенние краски.
Читать дальше




![Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]](/books/202576/mihail-gorbunov-belye-pticy-vdali-roman-rasskazy-thumb.webp)