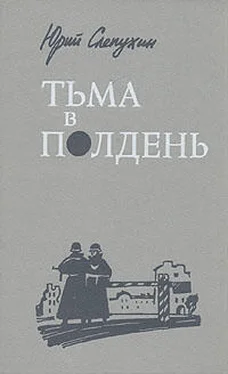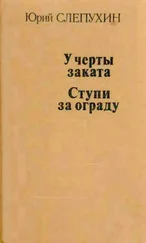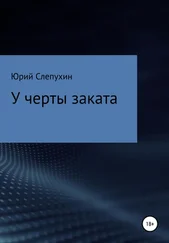Когда он вернулся к монастырю, полицаев уже не было. Он забрался в заросли бузины, без труда нашел место, валявшейся тут же суковатой палкой разрыл гнилые листья и рыхлую землю, вытащил небольшой тяжелый сверток в немецком бумажном мешке. Он прислушался – все было тихо, здесь никто никогда не ходил, место было выбрано идеально. Вот только сегодняшние полицаи – ну, это уж случайность.
Он отряхнул сверток от земли, развернул отсыревшую бумагу, потом клеенку – обычную кухонную клеенку со стертым голубеньким узором. Николаева все допытывалась – зачем он ее утащил? Утащил, а теперь нечем накрыть стол, не скатерть же класть в кухне...
Володя зажмурился и закусил губы, вспомнив ее – такую, какой видел все эти месяцы, то веселую, то грустную, то нарядную, то усталую и замерзшую, в ватнике, только что вернувшуюся со снегоуборки, то утреннюю – теплую, розовую, еще не совсем проснувшуюся... Он думал о ней, а пальцы его, развернув последнюю промасленную тряпку, уже нащупали холодный, скользкий от густой смазки металл.
Он собрал пистолет-пулемет быстрыми точными движениями, – вот когда пригодилась тренировка. Впрочем, это совсем просто, вроде «конструктора» из четырех деталей-узлов: ввинчиваешь короткий ствол, прищелкиваешь сзади выгнутый металлический приклад, потом – сбоку – ударом ладони вгоняешь на место тяжелый стальной пенал магазина. И все.
Он отрегулировал длину ремня так, чтобы автомат свободно висел дулом вниз под правой рукой, не мешая движениям, потом рассовал по карманам гранаты – три ударного действия, бочоночками, и одну дистанционную, на длинной деревянной ручке. Оправив на себе плащ, он еще раз прислушался и вышел из кустов. Было солнечно, тихо, безлюдно, ласточки носились вокруг колокольни. Он посмотрел на часы: стрелки под решеткой показывали половину двенадцатого.
...Самое главное было – не думать. Ни о чем. И уж во всяком случае не о том, что ее ожидает в городе. Теперь, наверное, они скоро приедут. Странно, дорога совсем незнакомая, – впрочем, конечно, он же поехал какими-то проселками. До сих пор из Энска и в Энск она ездила только машинами, по шоссе. Лошадью – первый раз. Первый и последний.
Дядисашина защитного цвета «эмка», потом военные грузовики лета сорок первого года – расхлябанные, дребезжащие, потом большой крытый «опель-блиц», в котором их возили на снегоуборку. Потом маленький, похожий на круглого жука, «ханомаг» Болховитинова и роскошный «майбах» Ренатуса – низкий, широкий, обитый изнутри простеганным в ромбы темно-зеленым сафьяном. Теперь уже не придется, теперь эта лошадь – последнее...
Впрочем, может быть, ее еще повезут куда-нибудь. Может быть, ее затребует ровенское гестапо. Или Берлин. Нет, не надо об этом думать. О том, что с нею будет в городе, – не надо, нельзя. Нельзя, нельзя...
– Ты что же будешь – партизанка, чи как? – спросил полицай, который, видно, до смерти уже соскучился.
– Разведчица, – ответила Таня не сразу.
– Поня-а-атно, – отозвался он. – Плохо твое дело, девка.
– Ваше не лучше, – сказала Таня. Она была почти благодарна своему конвоиру за то, что он заговорил с нею, оторвал ее от мыслей. – Что вы будете делать, когда вернется Советская власть?
Полицай подергал вожжой, почмокал.
– А нам от Советской власти милостей ждать не приходится, – сказал он. – И так ей по гроб жизни благодарные... еще по тридцать первому году, как наших, голых-босых, до Сибири вывозили в самую зиму.
Разговор на этом оборвался. Солнце стояло высоко, было уже, наверное, около полудня. От палящего зноя, от усталости долгого пути, от тряски Таней овладело какое-то отупение. Ушел даже страх, было одно лишь желание – скорей бы уж! Невыносимо было ждать, готовиться, предчувствовать; мучительна ведь не смерть, мучителен страх смерти. Нужно только надеяться, что тянуть они не будут. Она ведь не собирается в чем-то запираться! Она скажет прямо: да, она комсомолка, и, естественно, считает себя врагом оккупационных властей, и на службу поступила с целью им вредить, но такой возможности ей не представилось. Что касается подполья, то она с ним не связана, – очевидно, подпольщики не доверяют ей именно потому, что она служит у немцев. Последний аргумент казался ей особенно убедительным, совершенно неотразимым.
А потом вдруг она сообразила, насколько все это наивно, и на секунду представила себе, как будет происходить ее допрос в действительности: и в первый раз дикий, нестерпимый ужас хлынул на нее волною смертного ледяного холода. Полуденное солнце померкло и стало черным; она зажмурилась, чтобы не видеть подступающего мрака, и это было как бесконечное падение в черную беспросветную бездну – и одно слово осталось ей в этом падении, одно-единственное имя, которое рвалось сейчас из нее отчаянным беззвучным криком, слышным на всю вселенную. Сережа! Сережа! Сережа, ты ведь говорил, что никогда не оставишь меня в беде!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу