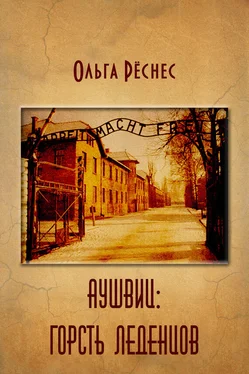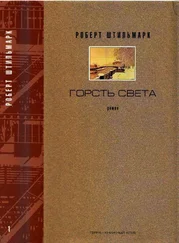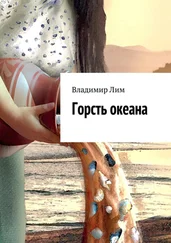Снова реют над полями
Стаи перелетных птиц,
То весна пришла с цветами,
С блеском трепетных зарниц.
Бледный свет струят березы,
Все в сияньи, как во сне,
Отчего ж так льются слезы,
Так светло и больно мне…
Она пела это без всякого сопровождения, в мгновенно охватившей зал тишине, пела свободно, как дышала, как будто бы даже и не в зале, а в поле, пела самой себе.
И луна, и этот воздух,
Шелест леса, звон ручья,
Мне поют в сияньи звездном:
Брось грустить, она твоя!
Я не мог поверить в то, что это чудо когда-нибудь кончится, я состоял весь из света, из неизвестной мне весны, горячо обещавшей мне: «Sie ist Deine, sie ist Dein!»
Должно быть ангелы тоже изредка посещают лагеря смерти, и им ничего не стоит очистить загаженный ненавистью и страхом воздух, насытить его озоном бескорыстия и самоотверженности. Что хотела сказать всем нам эта девочка? Что не все еще в мире рухнуло? Что у мира есть какое-то будущее? Что война есть кризис самосознания?
Лилипутам, правда, совсем не понравилось это неожиданное, вызывающее соло: сбившись за сценой тесной родственной кучкой, они визгливо шептали другу другу: «Светловолосый дьявол! Прекрасное чудовище! Ангел смерти!» Они не смели говорить об этом вслух, их слишком хорошо тут кормили, и не было еще в мире такого государства Израиль, откуда можно было безнаказанно охотиться за всеми, кто думает и рассуждает иначе. И они только шипели, только шептались…
Была уже ранняя весна, по ночам замерзала в ведрах вода, а днем вовсю стучала по крыльцу барака мартовская капель, и прямо под колючей проволокой, со всех сторон огораживающей лагерь, проклевывались белые подснежники. И я думал, что когда-нибудь, в какой-то другой жизни, отстоящей от этой на порядочное звездное расстояние, я снова окажусь в том же, что и она, месте…
Да будет с тобой вечный ангельский свет, Ирма Грезе.
Нафталий зачастил к нам в слесарку. Он прохаживается неспеша между рядами станков, иногда останавливается и смотрит, как я веду напильником по стальной заготовке или тыкаю жалом паяльника в мгновенно плавящуюся канифоль, и мне кажется, что вовсе не за этим он сюда явился, и, как изощренный наблюдатель, я слежу за каждым его шагом… Так проходят дни, но уже к концу третьей недели у меня складывается скандальная версия присутствия в нашей мирной слесарке выбранного нами капо: у него тут свой особый профит. Надо сказать, Нафталий заметно раздался вширь с тех пор, как его помиловал комендант Хёсс: он носит теперь широкие, военного образца, галифе, заправленные в идеально начищенные кожаные сапоги, и пальто с бобровым воротником теперь нараспашку, так что виден выпирающий под широким ремнем живот. Наш скудный лагерный паек его давно уже не интересует: все, что остается после обеда в офицерской столовой, теперь достается ему. Тем не менее, несмотря на сытость и доступ к любым лагерным шмоткам, у Нафталия имеется совершенно особый жизненный интерес в нашем мирном лагере смерти: ему нужна чужая невинность.
Редкое, надо сказать, увлечение. В такое ужасное время даже терпеливые ангелы отворачиваются от своих подопечных, не вынося вони слишком уж большой, даже для полных подлецов, лжи. Ангел не знает, что такое смерть, так же как ему не ведома ненависть: он весь состоит из любви, а посему – далеко не всегда с человеком заодно. И если кто-то, скажем, умен как черт, ему ничего ведь не стоит повернуться задом не только к своему ангелу-хранителю, но хоть бы даже и к Самому Творцу. Наибольший успех при этом достигается в самых тонких, скажем так, сферах: в том самом интиме, где чаще всего и разыгрывается драма и трагедия индивида. И ничто так не сопутствует этому успеху растления, как животный, зовущий к паническому бегству, страх. Я не совру, сказав, что в нашем лагере смерти страшно – всем.
Страшно и этим, недавно прибывшим из варшавского гетто худосочным подросткам: их заставляют каждый день подметать в слесарке пол, выносить стружку и мусор, мыть окна и стены. Все это им совершенно незнакомо, а потому – крайне подозрительно. Хотя здесь им, возможно, лучше, чем в насквозь криминальном гетто: несмотря на присутствие местной каннибальской полиции, здесь можно ходить туда-сюда, бесплатно глазеть на эсэсовцев, играть в футбол, и к тому же тут каждый день кормят. Их родители тоже тут, хотя восьмидесятилетнего дедушку где-то по дороге потеряли… да просто вышвырнули из вагона, и правильно сделали: не надо было так всю дорогу охать и ныть. Мальчуганы быстро просекли, что эсэсовцы никакие им не начальники: тут есть своя, и притом стопроцентно еврейская власть, свой родной капо, который, возможно, даже приходится тебе дядей. Дядя, к примеру, Нафталий.
Читать дальше