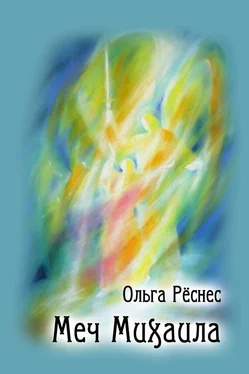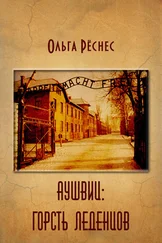Часть первая. Семья Синёвых
Так странно и жутковато стать рядом с ними, чужими и незнакомыми, укорененными в каких-то своих не известных никому жизнях, волею случая, а может, самой судьбы, и вмиг забыв себя, свои «откуда» и «зачем», уставиться горящим взглядом в раскрытую настежь дверь церкви, откуда несется наружу неутомимый голос батюшки, и истово, словно перед каким-то большим испытанием, креститься, креститься… И ничего хорошего в мире давно уже не происходит, если не считать рождения и смерти, а люди почему-то надеются на что-то особенное, чего им никто и нигде не обещает, да и никакого подтверждения этим надеждам нет, но сами эти надежды так никуда и не уходят, словно приклеенные к каждой, какая ни есть, душе. Об этом Дмитрий думал не раз, и всё брала его какая-то злость: не властен ни ты, ни рядом с тобой стоящий распоряжаться жизнью единолично, будто бы эта жизнь и не твоя . Но тогда спрашивается, чья? Посмей кто-то сосчитать хотя бы малую часть отношений и зависимостей, оплетающих паутиной каждого, не хватило бы никаких известных людям чисел, и сами эти подсчеты оказались бы напрасными. Вот и теперь, стоя у входа в церковь, среди молящихся и подпевающих, кто как может, слабосильному любительскому хору, Дмитрий снова сознается себе, торопливо заталкивая догадку поглубже в темные погреба души, что не тут она обретается, со всей непомерностью своих притязаний, неуловимая никакими силками свобода : нет ее ни в этом охочем до наставлений голосе батюшки, ни в страстности глубоких поклонов, ни даже… тут у Дмитрия осекается дыхание… в пожирании глазами вынесенной из тяжелых резных дверей чудотворной иконы. Неужто оно и есть самое в этой неустроенной жизни главное, без чего от жизни остается лишь прах нищеты и напрасная суета благоденствия, самое для человека насущное: тоска о свободе?
На этот вопрос, давно уже знает Дмитрий, никто пока не нашел ответа, хотя найти давно уже хочется. Ну, разумеется, не всем, ни о каком большинстве тут речь не идет. И хотя рука его проворно и как бы заученно попадает в такт со всеми остальными крестящими тела руками, а голова то и дело покорно кивает великим, красивым, пронзающим сердце словам, что-то в нем со всем этим не соглашается, что-то очень важное, очень интимное, неизменно упирающееся в твердокаменное «я сам». И когда уже батюшка принялся кадить, обходя кругом тесное пространство внутри и вынося наружу сладно волнующий запах ладана, Дмитрий спотыкается вдруг на своих мыслях, словно расшибает себе обо что-то лоб, и его подхватывает и несет прочь… всего лишь на миг, но и этого достаточно: он становится вдруг выше самого себя, своего маленького, крикливого, ненасытного «я», того, что вот уже сорок шесть лет копит опыт эгоизма , нисколько при этом не задаваясь вопросом о смысле жизненных неудач и побед, и только желает больше того же самого… И вот в этот миг, на одно только неуловимое мгновенье, в нем прорастает незнакомое ему прежде победное чувство: такое несокрушимо великое, что и сравнить ни с чем невозможно, а только отдаваться ему, словно какой-то долгожданной любви. И не в том дело, что батюшка, рьяно размахивая кадильницей, вдруг поворачивает и идет прямо на него, как если бы Дмитрий загораживал ему дорогу, и сладкий дым пробирается в глаза, где наготове уже слезы, – нет, весть о себе приходит изнутри, явившись как мучительное дознание, как давно уже ожидаемый итог нанизанных на прожитые годы провалов и взлетов. Встретив строгий взгляд батюшки, Дмитрий твердо смотрит ему в лицо, готовый быть пригвожденным заученными словами к ничтожности своего в мире удела, и вроде бы даже делает шаг навстречу, но тут же уступает батюшке дорогу, втайне не признавая больше никакой над собой власти этих суровых, выверенных временем слов. «Теперь-то, теперь, – пылает у него внутри, – до меня никто без моей воли не доберется! Это мое, ни с кем не делимое мое…» Но вот уже и отпустило, как обмякло, и рука привычно осеняет крестом лоб, живот и плечи. И гудит, превышая скромные свои силы, набранный из кого попало церковный хор, и те, что снаружи, вторят, не поспевая в такт, славословящим небо словам.
Облегчением было остаться перед церковью одному, войти теперь уже беспрепятственно в прохладное, затененное цветными стеклами пространство, оглядеться. Столько незнакомых, никогда не слышанных имен, столько похожих друг на друга иконописных портретов, все в красно-желто-коричневом, без примеси голубого или зеленого, будто перемазанные глиной, с одним и тем же выражением бессмысленной на все времена покорности и слащавой скуки. Может, их понавыдумывали приловчившиеся к цеховой рутине прилежные живописцы, беря числом над опасной глубиной, и теперь все эти местные святые маятся на отведенной им стене от плохого освещения, но больше – от равнодушного непонимания их собственных, втиснутых в молитвы, посты и поклоны жизней. Пустые, мертвые, вылущенные временем имена.
Читать дальше