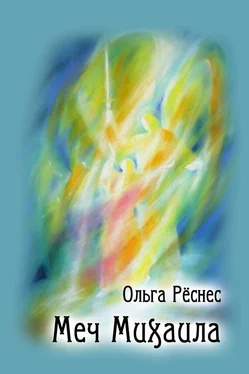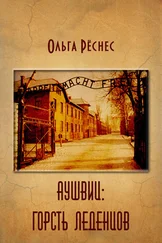Банк закрыли на перерыв, и Дмитрий нехотя выходит на улицу, стоит в нерешительности под картинно цветущим платаном, пялится, обернувшись, на синеющую аккуратными луковками церковь. Перевалив за полдень, майское солнце жжет врезанный в высоту золоченый крест, два раза бухает колокол, глухо и отчужденно, и Дмитрий вдруг остро чувствует полную несовместимость огражденной высоким забором территории семинарии с бестолково несущейся куда-то уличной жизнью: есть между ними граница, либо ты тут, либо там. Граница почти ощутимая телесно, словно какой-то незримый занавес повис от самого неба до разбежавшихся по газону, облитых солнцем одуванчиков, – повис и не дает нормальному нахальству магазинов и банков пробиться под ласковую плакучесть вздыхающих на ветру берез, с их невесомой, прозрачной тенью. Березы посажены совсем недавно, но сразу пошли в рост на старых, всеми забытых могилах, принимая от умерших уже ненужные им самим эфирные силы жизни, и уже хотя бы поэтому людям необходимо своевременно умирать, иначе не выжить ни одному на земле растению. И едва подумав об этом, Дмитрий задевает краем глаза присевшую на одуванчики собаку, бородатую, пшеничного окраса, и переводит взгляд на хозяйку… Женщина стоит к нему спиной, в короткой, какие носят девчонки, кожаной курточке, выше среднего роста, с умело уложенными на затылке светло-русыми волосами. Так и не обернувшись, она идет с собакой дальше, вдоль засеянного травой газона, и синие луковки церкви неспешно плывут мимо нее, и высокая железная ограда салютует, остриями кверху, ее складной, уверенной походке. Дмитрий провожает ее взглядом до самого поворота, где асфальт упирается в стену скучной, серой многоэтажки, а дальше скучный, с мусорными ящиками и кое-какой чахлой травкой, двор, а дальше… ну что там дальше… Так и довел ее взглядом до самого подъезда, больше уже мысленно, придумывая ей подходящее имя, и тут она вдруг оборачивается, словно заметив его шпионство, смотрит прямо в его сторону… и собака тянет ее в подъезд.
Яна.
Он и раньше это замечал: все, чем жизнь обрушивается со временем на тебя, задумано тобой же самим. Все исходит, как из раскаленной сердцевины круга, из глубинного бурления твоих, редко тобой осознаваемых мыслей. И если ты к тому же русский, этот невнятный, хотя и требовательный нутряной жар изливается только лишь в предчувствия, не доходя до ясных и совершенно логичных формул сознания. Ах, если бы продраться сквозь пламя этих затомившихся внутри тебя вожделений! Пробить навылет огненную стихию еще более яростным, выжигающим сам этот огонь, натиском… да чем же?.. чем? Только кристальной чистотой мысли. Мечом твоего же, отступившего от симпатий и антипатий духа, озабоченного не нуждами родины или узами родства, но только своей приближенностью к истине.
Внутренне содрогнувшись от этой внезапной догадки, холодея до самого сердца и чувствуя под ребрами сосущую пустоту, Дмитрий переводит взгляд на синие, под синим майским небом, купола, и рука его сама осеняет крестом неширокие, под вязаным свитером, плечи и легшую на грудь черную, мелко вьющуюся бороду. Здесь, между банком и церковью, его подкараулила вычеркнутая уже из судьбы прихоть: тоска по не умещающейся ни в каком насиженном гнезде свободе.
Да что это, в самом деле, такое, свобода? Вроде бы хотят ее все, и нет ни одной войны или революции, где не мусолилось бы это великое слово. А на деле выходит, что становится ее в мире все меньше и меньше, да вот уж и последний ручеек скоро пересохнет, и тогда… тогда-то наконец и наступит такое долгожданное, такое мучительно желаемое счастье. Нет большего для свободы препятствия, чем стремление к счастью. Сама добыча счастья всегда упирается в самообман, он-то и есть самое в этом деле приятное: дать себя куда-то нести передающим тебя друг другу волнам иллюзий и только спать, спать… только не брать на себя леденящий сердце труд самопознавания. Вот и теперь Дмитрий мог бы рвануться за этой женщиной к ее скучному подъезду, глянуть ей в лицо, дать ей себя узнать… а вдруг?.. вдруг?.. Был бы этот его поступок, этот внезапный порыв, свободным? Этот внезапный риск потерять всё из-за какого-то, может, пустяка. Ну, догонишь ты ее, ну сообразишь даже, что сказать… а она мимо и – к себе. Только собака тебя, может, цапнет, чужого. Скучно, неуютно, кисло.
А дома, в Москве, четверо детей. Дмитрий наплодил их одного за другим уже после тридцати, словно беря реванш за изнуренную школьной текучкой и алкоголизмом молодость. Четыре похожие друг на друга дочери, вот оно, совершенно зримое счастье. Ну и, конечно, она, как же без нее. Верткая, черноглазая, совсем не похожая на Яну… вот и снова про это, и снова… Закрытый подъезд, мокрый собачий след среди одуванчиков.
Читать дальше