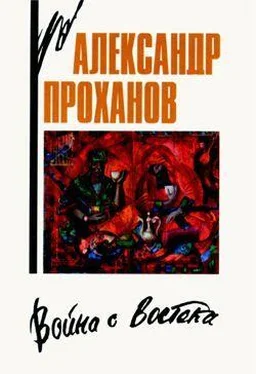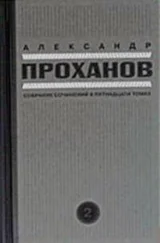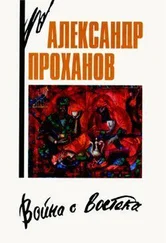«Час лету… – подумал прапорщик, прижимаясь к стеклу, – опять по телеку хороший фильм пропустил…»
Вертолет мерно тянул по ночному звездному небу. Где-то рядом во тьме следовала вторая машина, связанная с первой незримой струной – голосами, позывными эфира, чутким зрением летчиков.
Власов смотрел в иллюминатор на близкие туманные звезды, на глубокую, мутную землю, где шел ночной бой. Гроздь лимонно-желтых осветительных ракет висела над плоскогорьем на изогнутых, повторявших друг друга стебельках дыма. В их призрачном, бестелесном свечении проступали горные складки, белесые, словно посыпанные мукой. Над этой мучнистой россыпью летели красные ягоды пулеметных трассеров, настигали одна другую, гасли, ударялись о невидимую преграду. Мерцало и вспыхивало – разрывы гранат и снарядов. Звуков боя не было слышно, все тонуло в монотонном дрожании винтов, своим однообразием превращавшемся почти в тишину.
Власов представлял себе картину ночного боя. На придорожной заставе из траншей, амбразур хлестал огонь пулеметов. Гаубицы долбили «зеленку». Кто-то падал, пробитый осколком. По невидимым тропам, исчезая в арыках и рытвинах, скользили стрелки-моджахеды. Уносили на плечах горячие стволы минометов, остывающие тела убитых.
Ему доводилось несколько раз проезжать по бетонке – горячий глиняный город с пестротой дуканов и рынков, с малиново-синими, словно бабочки, повозками моторикш, с голубыми куполами мечетей. Водитель страшился выстрела, гнал «бэтээр» что есть мочи. За городом на дороге открывалась бесконечная ржавая бахрома разбитых грузовиков и танков. И Власов, пугаясь, но испытывая острое, неясное любопытство, высовывался по пояс из люка, смотрел на остовы изуродованных взрывами механизмов.
Он радовался теперь, в вертолете, что находится не там, на ночной заставе, принимавшей бой. Всего раз он был под обстрелом, когда в расположение части издалека прилетел реактивный снаряд, разорвался у прачечной, легко контузив солдата. Два года службы в Афганистане прошли безбедно, если не считать легкой формы гепатита, уложившей его на месяц в госпиталь. Там, в госпитале, он видел операционные, полные крови. Мимо окон его палаты проходили санитары, проносили в ведерках ампутированные ноги и руки…
Он передернул своим плотным, сытым, охваченным лямками телом, пропуская по мышцам упругую волну тепла и силы. Нет, не думать об этом, лучше подремать и забыться.
Он откинулся к обшивке. Было темно. На стене слабо краснело, как остывающие угли в печи, какое-то табло с надписью. За дверью кабины, во тьме, сидели пилоты, среди таких же, красных на черном, циферблатов, индикаторов, надписей.
Власов закрыл глаза. И возникла высокая, густая череда зверобоя, на желтых стеблях, солнечная и горячая. Пройдешь их пахучие заросли – и босые ноги окажутся в теплой воде, в колее. В помятых тележных следах выросли цветы иван-да-марьи, лиловые, остроперые, с оранжево-золотым подбоем. Ступаешь по ним босиком. Черная, теплая грязь просачивается, брызжет сквозь пальцы, шуршат мягкие листья, цветы. На просеке, прошибая малинник розовыми мощными пиками, застыла стена кипрея, чьи вершины, утончаясь, слегка загибаются, и, если войти в их гущу, увидишь на листьях, зеленых, сочных, белые пышные зонтики. В их медовых пушистых пуках – мушки, жучки, пчелы, плюшевый, шевелящийся шмель, сложившая крылья бабочка. Шмель, перебирая лапками, сминая цветы, натолкнулся на бабочку. А там, на знакомой поляне, среди зеленого света и солнца, – жена, дочь. Расстелили на земле покрывало, жена на травинку нанизывает красные ягоды, а дочь, вся в земляничном соку, держит в руках сыроежку.
Это было видение, сон, которым Власов мог управлять. Вызывать и вплетать в этот сон другие видения. Деревню, куда приезжали погостить к старикам, ветхий, глухой амбар с кованой, старинной, напоминавшей секиру скобой. Круглая, с желтой стерней гора, с которой открывались озера, пашни, седые деревни, дороги, и из желтой стерни вдруг начинали взлетать черные, с синим отливом грачи – они кричали, клубились, колыхались бахромой, заполняя все небо, и вдруг разом падали в жнивье, скрываясь в его желтизне… И тот мокрый снегопад, в котором играли ватагой, катали липкие, сочные комья, строили бабу, и он обледенелыми пальцами, потянувшись на цыпочках, вклеил снеговику вместо глаза две коричневые Ягодины шиповника… Чаепития в избе, где мать разводила медный, старинный, слегка протекавший самовар и он, вытянув шею, вглядывался в его стертые бока, с царями, орлами и клеймами. И мать ставила перед ним дымящуюся белую чашку…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу