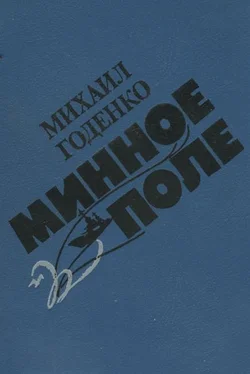Сердце Михайла подпрыгнуло, но он постарался успокоить его. «Добро, я скажу!» И действительно поверил в то, что ответит веско, ни робости, ни смущения в себе не почувствовал.
— Разными они бывают, но если бы писал — взял бы того, кто заслонил в моем сознании всех иных председателей. Есть у меня такой, его зовут Довба, — сиволапый мужик, конечно, как может многим показаться. Он голова первого в районе колхоза, послевоенного... — по-прежнему держась обеими руками за флотский ремень, начал вслух вспоминать Михайло.
...Вечерело. Мать вынесла пеструю ковровую дорожку, постелила ее на цементном крыльце, пригласила.
— Сидай, сынок. — Сама опустилась рядом, отцу строго приказала: — А ты удались, геть, не дыми своей трубкой, бо и так дыхать нечем…
И вправду дышать было тяжело, воздух стоял мертвый, клонило на дождь. Из-за палисадника показался Довба. Полы замызганного коротковатого кожуха были распахнуты. Шапка из коричневого барашка глубоко сидела на ушах. Домотканые штаны мутно-сизого крашения были схвачены снизу на удивление белыми онучами, онучи переплетены тонкими ремешками от постолов (черевики, сшитые из сыромятной кожи) вверх, до коленей. Довба, тяжелый на вид, мешковатый, по земле ступал легко, уверенно.
— Буна сара! — поздоровался, пожелав всем доброго вечера. Вспомнив о самом важном, из-за чего, собственно, и пришел сюда, воскликнул: — Го, мэй-брэй! Карповна, — обратился к матери Михайла, — одолжите мне паляныцю хлеба, бо Маруся моя сегодня не пекла, поехала в Тараклию до родичей.
Трогательная пара: Довба и Маруся. Он — громадина, она — по виду совсем девчонка, росточку слабого, мужу по пояс. Тонкая, даже боязно за нее: не сломает ли. Но ей было с ним, каждый видел, удивительно хорошо, как у Христа за пазухой.
Мать вынесла паляныцю. Довба, стряхнув с плеч кожушок, подмял его под себя, присел, упираясь в стену хаты, вытирая домотканой рубахой побелку.
— Ну и печет! — заметил он. Прижав буханку ребром к груди, отхватил от нее кривым садовым ножом увесистую краюху.
— Будет печь, если кожуха не снимать с плеч, — заметила мать. — И зимой и летом — одна одежа. Чи привыкли?
— Ей-бо, привык. Всегда ж в степу. То дождь, то холод, то солнце, то ветер. Кожушок як щиток, затулишься им — и живешь себе. — Довба говорил, проворно уминая все новые и новые куски хлеба. Буханка заметно уменьшалась.
Он сказал: «в степу», но это пришлось к слову, в действительности он сейчас не в степи работает, а в кузнице. Недавно пришел он в МТС, попросился на работу — его определили молотобойцем: куда же еще такую силищу поставишь?
Отец Михайла, Матвей Семенович Супрун, выбив жар из трубки о ствол акации, вспомнил подбитый немецкий танк.
— Зачем ты приволок его до мастерской? — спросил Довбу недовольно.
— О, мэй-брэй, тувариш дирехтур!.. — оживился Довба, но Матвей Семенович не дал ему договорить.
— И почему вольничаешь? Кто тебе дозволил брать у селян быков, чтоб тащить сюда эту мертвую железяку?
— Мэй-брэй, пахать будем. Прицепим плуг — и в поле, гай-гай пахать! — Довба объяснил, что башню с пушкой можно срезать, двигатель отремонтировать, и паши этим танком-трактором за милую душу.
— Ты глянь, — обрадовался Матвей Семенович. — Вот барбос, шо удумал!
Стемнело: не то зашло солнце, не то хмара наползла на хмару. Крупно ударили редкие капли дождя. Довба засобирался.
— Мэй-брэй, поздно. Мабудь, моя Маруся пришла до хаты, а овца не доена...
Мать посмотрела на него и всплеснула руками:
— Святой отец, где же паляныця?..
— Да ничего, Карповна, не турбуйтесь, — стал успокаивать ее Довба, — за разговором я так легонько резал хлеб — и в рот, а когда спохватился — паляныци уже немае. — Он стряхнул со штанов последние крошки. — Не беда, Маруся у родичей повечеряла, еще и гостинца, мабудь, принесла. Ей-бо, принесла, — заключил он утвердительно.
Так впервые Михайло повстречался с Довбой. Случилось после видеть его и в поле, и в конторе артели. Довба действительно-таки пахал на танке. И на «ланц-бульдоге» пахал — на трофейном немецком тракторе. В артель он пошел первым, селяне — за ним. Потом избрали его своим председателем. Крестьянину речей не нужно, ты ему покажи, что ты можешь. Довба мог все: где умом, где силой. «Ланц-бульдогу» передок заносил, если тот выбивался из колеи. А когда не было сеялки, он придумал свою: достал старые колеса, сбил ящик для зерна, вместо чугунных рожков поставил рога настоящие, воловьи, просверлил в них дырочки, чтобы через них зерно в землю сыпалось, и сеял. Еще и шутил: «Сеешь рогом — уродит с богом!»
Читать дальше