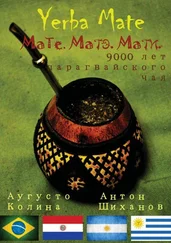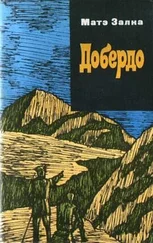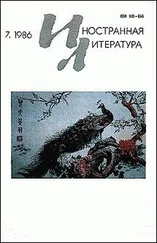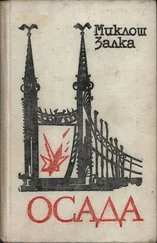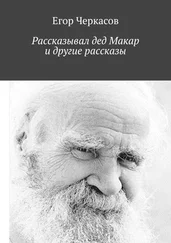— Если бы случилось иначе и наши победили — мы, мелкие сошки, пострадали бы от этого больше всего.
Я не верил в пророчества моего друга, но ценил его общество. Он тоже охотно посещал меня. Ему нравилось, что в беседе с офицером он может говорить все, что взбредет ему в голову, и от моих скептических записок только весело отмахивался. Для меня были совершенно новы взгляды такого ярого антимилитариста, каким был Больди. Очевидно, он был не одинок. Неопровержимые суждения сокрушающим потоком лились из его уст. Чувствовалось, что он основательно подумал над этой проблемой. Он много раз пытался заставить меня заговорить, считая, что глупо подвергать себя таким мучениям.
В моем мозгу клубились слова, меня охватывал страх, я бледнел, от волнения покрывался холодным потом. Видя это, Больди бросал свои уговоры. Но когда подымался вопрос о возвращении на родину, Больди становился серьезным и непоколебимым.
— Ты знаешь, — говорил он убежденно, — если бы я попал домой до конца войны, я бы всю свою жизнь посвятил только тому, чтобы разрушить всю нашу систему. G войной надо покончить силой. Министры не способны разрешить этот вопрос. Это дело солдата.
То, что я испытал в лагере, во многом изменило мои взгляды на военную службу и на войну. Все это до плена было для меня романтическим похождением и довольно удачным. Я слепо прошел такие опасности, от которых можно было поседеть. Я был молод. На этом ужасном деле и я делал карьеру. К тому же еще Эльвира…
В разговорах с Больди я вдруг понял, что, собственно говоря, я бессовестный человек. Домой можно было писать письма раз в неделю. Раз в месяц я писал родителям, а три раза изливался перед Эльвирой. Я писал письма каллиграфическими буквами немого человека. Мать я почти забыл. Об отце вспомнил только тогда, когда Больди сказал, что старик давно уже мобилизован и, может быть, теперь уже на фронте.
Я был пленен Эльвирой, этим блиставшим в моем воображении существом, означавшим для меня продвижение в высшие слои общества. Конечно, тогда я не мог вполне ясно разобраться в этом чувстве — у меня не было ни подходящей терминологии, ни точного понимания, — но время, если человек к нему прислушивается, может объяснить очень многое.
В словах друга я почуял упрек.
— Ага… забыл своих! Забыл об отцовской халупе!
Ведь ты крестьянин, и если бы не старания отца, ты сгнил бы среди этих тысяч…
Однажды мне приснилось, что я спорю с Больди. Доказываю ему, что я не продался, что я не забыл о долге…
В ужасе я проснулся. Вся палата спала. Я долго прислушивался. Не говорил ли я в действительности?
Была зима, и в Петрограде, как нам говорили, «обновилась революция». Офицерам читали выдержки из верхнеудинских и иркутских буржуазных газет, в которых говорилось: «Большевик означает большой. Большой с большака. Это не что иное, как завербованные на немецкие деньги рослые бандиты из бывших гвардейцев-дезертиров, каторжников. Во главе их стоит Ленин, который своими отрядами терроризирует лучшие слои населения».
Больди объяснил мне, что большевики — это социалистическая партия, которая организованно берет власть во всей стране и первым же делом покончит с войной.
— Это серьезные люди. Рекомендую тебе познакомиться с их программой. В Иркутске мы как раз печатаем ее на венгерском языке. Очень поучительное чтение.
Больди так и не принес мне программы большевиков на венгерском языке. Неожиданно он уехал в Иркутск, и с ним, как мне передавали, ушли двадцать пять солдат. Они переоделись в русские мундиры, вооружились и назвали себя красногвардейцами-интернационалистами.
— Это измена присяге! Это измена родине!
О тех, кто вступил в красногвардейские отряды, офицеры составляли секретные протоколы, чтобы по возвращении на родину передать их в военное министерство. Но это не помогало. В Иркутске фенрих Нотьонди уже навербовал целый батальон интернационалистов, и амурские казаки боялись их, как самого черта.
В душе я гордился Больди, его убежденной последовательностью, и все с меньшими надеждами ожидал весны.
Стояла еще глубокая зима, когда из березовского лагеря бежали последние русские офицеры, и лагерь стал советским.
Пленное офицерство всполошилось:
— Будут ли красные платить жалованье? Волнения были напрасны, Большевики платили.
В Брест-Литовске собралась мирная конференция, и разнесся слух, что скоро начнется всеобщий обмен пленными. Это вызвало неожиданную симпатию офицеров к красным. Ио эту идиллию скоро омрачило то, что Советы передали охрану офицерских лагерей бывшим пленным солдатам — теперь красногвардейцам.
Читать дальше