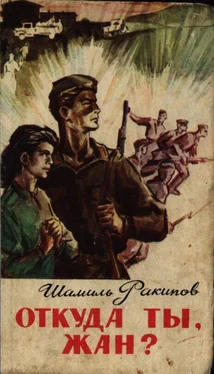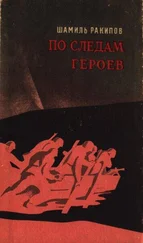— Опять эту сказку рассказываешь? — заглянул в комнату вернувшийся с работы младший брат Ирины Лукиничны.
Жил он с женой и детьми в другой половине дома — в так называемой белой избе. Там уже собрались родные, знакомые и ждут Ивана в гости.
— Пойдём, племянник, — пригласил он. — И ты, сестра, не откажи.
Они перешли в другую половину.
Иван сидел среди гостей растерянный, не зная, что и говорить им. Люди ждали от него правду, правду с Большой земли. А Иван говорить этого не мог. Ему было тесно в одежде полицая, она как бы жгла всё тело. Иван расстегнул воротничок, облизал пересохшие губы. Надо было до конца играть свою роль.
Вскоре вошёл староста с двумя собутыльниками. Они хотели угостить полицая из Минска, услышать от него утешительные слова. За столом то и дело били себя в грудь, ругали тех, кто жалуется, не доволен новым порядком.
Кабушкин три дня гостил у матери. С утра возился во дворе, сгребал снег, чинил сарай, заборы. Мимо дома проходили немецкие лётчики. Нетрудно было запомнить их и подсчитать экипажи. С аэродрома днём и ночью с гулом поднимались в небо самолёты. Сосчитать их тоже было нетрудно. В разговорах с односельчанами узнавал, какие дороги ведут к аэродрому. Об охране дорог рассказал ему сам староста, любивший похвастаться новым порядком.
И, наконец, на четвёртый день утром сказал матери:
— Мне пора, мама. Я ухожу!
Ирина Лукинична заплакала, просила погостить ещё немного, но увидев, что сыну действительно пора возвращаться, махнула рукой и стала готовить его в дорогу. Материнское сердце билось тревожно. Когда провожала Ваню в первый раз, на войну с белофиннами, не испытывала такой тревоги. Тогда с ним были его друзья. Теперь же он один. Товарищи даже не знают, кем он стал в этой полицейской форме. И если вдруг пробьёт последний час его, никто и не узнает, где и какую смерть он принял…
— Свидимся ли ещё, сынок, бог знает… Но с прямого пути не сворачивай. Если дело твоё правильное и совесть чиста, не потеряешься. Когда же… — Ирина Лукинична вдруг зарыдала.
— Не надо, мама, — сказал Иван. — Зачем же так плакать?.. Прощай! Скоро я вернусь, мама!
Отдыхавшая три дня рыжая лошадка с белой звёздочкой на лбу, встряхивая головой и поднимая снежную пыль на зимней дороге, понеслась полной рысью. Голос матери, стоявшей в залатанном полушубке и что-то кричавшей вдогонку, был заглушён гулом самолётов на вражеском аэродроме. Самолёты начали подниматься в небо друг за другом, оставляя на снегу скользящие тени.
— Сломались бы ваши моторы! — проклинала их у крайних ворот незнакомая Ивану старуха.
И, словно услышав её проклятия, вскоре поднялся ветер…
Два дня свирепствовала буря над селом. А на третью ночь Ирину Лукиничну разбудили сильные взрывы. Бушующий пожар осветил всё вокруг так, что на снегу можно было искать иголку. Взрывы прекратились только утром, но аэродром горел ещё до вечера.
Материнское сердце почувствовало приближение беды.
Арестовали Кабушкина 4 февраля 1943 года, когда он пришёл на встречу с оперативной связной отряда Ирмой Лейзер. Притаившись, подстерегали его на явочной квартире. Не успел он войти в дверь, как семь гестаповцев повалили его на пол, связали руки за спину. Кабушкин, пытаясь вырваться, вскочил на ноги, но из комнаты выбежали на помощь другие. Связали ему ноги. К дому подъехали два «чёрных ворона». В одну машину солдаты затолкали Кабушкина, в другую сели сами.
Гестапо размещалось в каменном здании Минского института народного хозяйства. Там, в его сырых подвалах, томились десятки знакомых Жану подпольщиков. Живыми отсюда выбирались немногие — гестаповцы требовали от них изменить родине и служить «Великой Германии». Их запугивали, уговаривали назвать имена, фамилии, указать адреса вчерашних боевых товарищей — предавать честных советских людей. Обещали деньги, которые якобы будут откладываться на их имя в иностранных банках.
Такой же «корм» подбросили и Кабушкину, желая узнать, не клюнет ли? Допрашивал его самый опытный и самый хитрый следователь гестапо Фройлих.
— Очень рад встрече с вами, Жан, — улыбнулся он. И тут же приказал гестаповцу — Развяжите ноги Жану!
Солдат с выступающей, как у бульдога, челюстью развязал верёвки. Жан тут же пнул его ногой в живот. Но другие, солдаты, опасаясь, как бы очередь не дошла и до Фройлиха, направили автоматы в лицо Кабушкину.
— Арестованного в мой кабинет!
Фройлих уселся в кресло за широким столом, велел развязать арестованному руки и принести коньяк.
Читать дальше