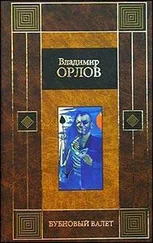...По лесам, кустам, речным долинам,
Над полями, разгоняя тень,
Чрез окопы, проволоку, мины
Шел на запад наш июньский день...
Крутов задумчиво прищурил глаза:
— В этих словах есть что-то такое, чистое... Я вполне представляю себе картину. Это уже стих, мне он понятен. Однажды, в госпитале, я тоже начал писать стихи. Было такое настроение, что слова прямо просились на бумагу. А потом все пропало. Сколько ни бился, больше не получилось, и я бросил. Не каждый поэт, кто захочет. Даже поэт не всегда может писать... «Пока не требует поэта к священной музе Аполлон...», даже поэт остается обычным смертным. Это еще Пушкин сказал, а он понимал толк в своем деле... Нам, солдатам, если мы хорошо воевали, но плохо писали стихи, — простят. Я думаю, после войны будет особый род поэзии с грифом: «Написано в окопе. Не критиковать!..»
Взглянув на Зайкова, Крутов встряхнул головой:
— Ну, показывай свои огни!..
В семнадцать началось... Сколько б ни прожил на свете, Крутову не забыть ни этого солнечного дня, ни первых коротких толчков земли, снова разбуженной залпами батарей, ни воздуха, до отказа забитого воющими, вопящими на все лады снарядами. Десятки самоходок и тяжелая артиллерия Гольвитцера расчищали дорогу своим полкам.
Весь сжавшись, Крутов приник рядом с двумя телефонистами к самой земле, до боли стиснул виски.
— Венера, Венера, я — Орел, — твердит один из телефонистов, еле шевеля сухими побелевшими губами. — Я — Орел, Орел...
Снаряды яростно сотрясают землю, мощными ударами вгрызаются в ее нутро, рвут ее живое, трепещущее тело, взметывают над ней фантастические черные султаны-деревья. Комья земли, сметаемые взрывами с бруствера, падают сверху, барабанят по каске, сыплются на спину, вихри пыли гуляют по траншее, засыпая песком приникших к земле бойцов. Перехватывает дыхание, когда, перекрывая грохот, врывается басовитый вой тяжелого стопятидесятимиллиметрового снаряда. Все замирают.
— Венера, Венера, я — Орел, — шепчет возле самого уха телефонист, умоляя далекого товарища на другом конце провода откликнуться на зов. — Венера, я — Орел...
Не дозвавшись, он тронул за плечо напарника:
— Порыв на линии... Бери трубку, я пошел!
Крутов рукой придавил его к земле:
— Не надо, погоди...
Встать и идти сейчас — это смерть, — напрасная, преждевременная, потому что сращенный провод будет перебит еще десятки раз, прежде чем ты успеешь вернуться, отважный телефонист. Все равно сейчас все замерли на своих местах и ждут... Надо и тебе переждать.
Но сколько можно ждать! Гнев поднял Крутова, он подбежал к телефону, рванул трубку из рук телефониста.
— Работает? Вызывайте полковника!
— Что случилось? — совсем, казалось бы, рядом раздался голос Чернякова. — Что случилось, Крутов?
— Вы слышите, что творится здесь? — Крутов нажал клапан трубки, чтобы на другом конце провода могли услышать, в каком аду находится батальон. — Учтите, не с кем будет стоять, когда они пойдут. Где же ваша обещанная авиация?
— Ты напрасно волнуешься, — как можно спокойнее ответил ему Черняков. — Укрывайся получше и жди. Авиация вот-вот должна появиться. Огонь сильный, это верно. Но по мне ведь тоже бьют... Это то самое и есть, о чем мы тогда говорили. Помнишь?..
Крутову стало стыдно. Как он мог подумать, будто Черняков сидит и ничего не предпринимает, когда враг беснуется?
В дальнем продолжительном громыхании, захлебываясь, глохли вражеские батареи.
«Пошла, пошла авиация», — догадался Крутов и, пользуясь моментом, приподнялся над бруствером, чтобы окинуть взглядом все поле, перекрытое жалкой полоской окопного бруствера. Пыльное облако, постепенно редея, сползает на сторону, открывая взору пустые, будто вымершие окопы и поле, по которому движется многочисленная фашистская пехота, а за нею, на некотором удалении, — машины, машины, машины...
— К бою! — изо всех сил закричал Крутов.
Он знал, что в ротах его голоса не услышат, разве только связисты и артиллеристы, которые сидят рядом. Но все равно...
Захваченный частями Квашина пленный дал верные показания. Атаку гитлеровцев, начатую точно в семнадцать часов на двух направлениях одновременно, нельзя было назвать атакой в полном смысле слова. Квашину еще не приходилось видеть подобной, хотя он на фронте с первых дней войны. Это был непрерывный, многочасовой, отчаянный натиск тридцати тысяч гитлеровцев, стремившихся вырваться из окружения. Их боевые порядки были необычны. Цепями шла пехота и все, кто мог держать в руках оружие. Следом за ними и среди них шли самоходные орудия и транспортеры, волочившие за собой полевые пушки разных систем. Метались по полю, скучивались на дорогах грузовые машины, «оппели» и легковые автомобили других марок, громадные, как дома на колесах, штабные автобусы... Опрокидывая повозки, рвались и вставали на дыбы обезумевшие лошади. Отбитые раз, гитлеровцы снова обрушивали на гвардейцев шквал огня и поднимались снова и снова, что-то горланя, чтобы подхлестнуть свою решимость. Даже раненые, они не отставали от идущих вперед, боясь быть брошенными на произвол судьбы.
Читать дальше
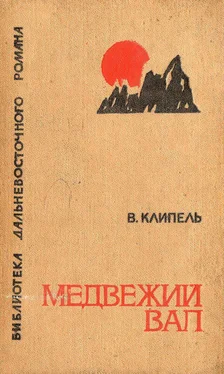


![Владимир Клипель - Испытание на верность [Роман]](/books/27384/vladimir-klipel-ispytanie-na-vernost-roman-thumb.webp)