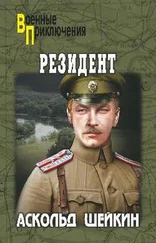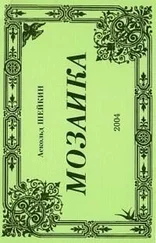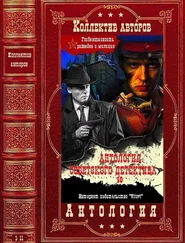Ночевали в Туле, в гараже воинской части. Шорохов и Мануков дремали на стульях в кабинете начальника. Михаил Михайлович возился с автомобилем. Выносливость этого человека была поразительна.
— Тру-ту-ту! — разбудил он их на рассвете. — Поднимайтесь, роднуленьки! Вас ждут, м-м, великие дела!
Верстах в двадцати от Ельца свернули с большой дороги. Колеса скользили. Располосовали на жгуты пальто, обмотали ими шины. Нисколько это не помогло.
Наконец Мануков предложил бросить автомобиль. Михаил Михайлович не стал спорить:
— Милейший, пожалуйста! Я с ним не венчан. Мнения Шорохова они не спросили.
Долго шли лесными тропинками, полями, перепаханными под озимь, продирались сквозь посевы подсолнечника. Шляпки с них уже были убраны. Стебли торчали из земли, как серые пики.
Михаил Михайлович на ходу помахивал прутиком, снисходительно улыбался. Шорохов, конечно, постоянно помнил: это тоже враг не на жизнь, на смерть, — и все же испытывал по отношению к нему симпатию, тем более что Мануков от усталости с каждым часом становился все раздражительней, срывался на крик:
— А-а!.. Я просил вас ко мне обращаться?..
До Ельца оставалось верст пять, как налетел разъезд. Казаки были хмельны, сыпали бранью. Один из них, наклонясь с седла, схватил Михаила Михайловича за воротник его кожаной куртки. Михаил Михайлович вырвался, отбежал сажени на две, погрозил пальцем:
— Но-но, милейший-роднейший!
В ответ казак поднял нагайку. Его сотоварищи с гоготом следили за происходящим.
— Эт-та что! — завопил Мануков. — Так обращаться с господином офицером!
Казак угрожающе обернулся к нему. Но тут вмешался старшой разъезда. Приказав ждать, он уехал. Казак с нагайкой стоял в трех шагах от Манукова, сверлил его ненавидящим взглядом.
Через час свершилось знакомое Шорохову преображение. Подлетела тачанка. Под эскортом тех же хмельных казаков въехали в Елец.
Город горел. В разных концах его вздымались столбы дыма. Ставни домов были закрыты, лавки зияли сорванными с петель дверями, выломанными окнами. На улицах встречались только военные, все как один изнемогавшие под тяжестью коробов и мешков.
В доме, где компаньоны размещались и прежде, их встретил поручик Иванов. Теперь был он в офицерском мундире, но, здороваясь, улыбался с прежней услужливостью.
— Вы ничего не знаете о Фотии Фомиче Варенцове? — сразу спросил Шорохов. — Тоже из нашей компании. Здесь попал в лазарет.
— Помню, — ответил Иванов. — Как же. Однако не имел возможности этим господином поинтересоваться.
— А сейчас?
— И сейчас не имею. Лазаретов в Ельце больше совершенно нет. Выехали.
В одной из комнат был накрыт стол: сметана, молоко, творог.
— Для слабоумных детишек с расстройством желудка, — заключил Михаил Михайлович, оглядев эти яства.
Иванов воздел руки:
— Поверите? Родился здесь и крестился, но — мерзкий город. Ни одного порядочного человека.
— Мы, что же, могли бы его съесть? — строго спросил Михаил Михайлович.
Словно за поддержкой оглянувшись сперва на Шорохова, потом на Манукова, Иванов сказал:
— Понимаю. И приказ был: потчевать от души, но… Представьте себе! Негде!.. Пусть не в ресторане, у кого-нибудь на дому. Однако к кому ни пойди, слышишь: «Нечем. Казачишкам ушло». А они стояли-то лишь трое суток. Все оставлено Совету районных организаций, тем же самым господам, к которым я теперь обращаюсь. Никто ничего не желает понять. И как трудно! Комендантом города назначили штабс-капитана Воронова. Тонкий, образованный человек! При большевиках до самого прихода казаков режиссером театра служил. Так вот, по его распоряжению в обоих городских садах днем сегодня спектакли были назначены. «Хлеба и зрелищ!»- это же еще со времен Древнего Рима… Сколько сил приложили: костюмы, декорации, лучших господ актеров… Поверите? Кто из них сам не пожелал, под ружьем приводили. И пьесы господина Островского взяли известнейшие: «Не все коту масленица», «Свои люди — сочтемся». Думали: сплотится этим народ. Так ведь зря господа актеры гримировались! Из публики ни одной души не явилось. Сидели по своим погребам. А небось как объявили о выдаче сахара, набежали. Только бы хапать.
— Известно ли вам, роднулечка, — задумчиво произнес Михаил Михайлович, когда это излияние закончилось, — чем отличается донской жеребец от иголки?.. На жеребца вы сначала вскакиваете, потом садитесь. В седло, разумеется. Если это иголка, все происходит наоборот. Сначала садитесь, потом вскакиваете. С воплем, роднулечка. Вроде этого вашего крика души. На то ли сел ваш штабс-режиссер? Вы сами-то кем служили при большевиках?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Аскольд Шейкин - Тайна всех тайн [повести]](/books/27347/askold-shejkin-tajna-vseh-tajn-povesti-thumb.webp)