Тимофей молча сполз с сиденья, потоптался в проходе и вышел. А через минуту: тр-р-ррах! тр-р-рах! — словно осколки зенитных снарядов загрохотали по обшивке самолета куски льда, летящие с винтов. Затряслась приборная доска.
В кабину влетел Глушаев. Глаза по блюдечку.
— Командир, надо возвращаться!
— Нет!
Глушаев насупился:
— Командир, опомнитесь! Разобьемся!..
— Нет!
Глушаев выпрямился и посмотрел на меня ледяными глазами.
— Значит, вы ставите свой принцип дороже жизни двадцати ни в чем не повинных штурманов?
Не слова Тимофея произвели на меня воздействие, а его взгляд, холодный, презрительный. Мне стало стыдно. Мучительно стыдно. Я очнулся.
— Ты прав, Тимофей, будем возвращаться. Прости.
Глушаев метнулся в салон. Через несколько секунд он, стоя в проходе, уже выкрикивал мне пеленги.
Машина шла тяжело. Трясли моторы. Они ревели на полную мощность, и все же мы понемногу снижались. Иногда, срываясь с винтов, грохотали по обшивке куски льда. Самолет качался, и, чтобы удержать его, мне приходилось делать широкие движения штурвалом. Глушаев укоряюще посматривал на меня, а я обдумывал, как будет вести себя Вознесенский, когда мы, по его вине, придем домой в таком вот неприглядном виде?
Облака оборвались возле самого аэродрома. Мы вышли точно к посадочной полосе и, почти не сбавляя обороты моторам, плюхнулись в раскисший снег. А теперь рулить! Рулить, пока не отвалился с крыльев лед. Надо привезти «доказательства»! Мчимся, как на взлет. Вот и наши ангары. Стоят люди, смотрят. А вон и Вознесенский! Но… что это?! Ага, он отвернулся! Хочет сподличать и тут! Пока то да се, лед отвалится, и тогда он спросит, почему вернулись?! Ну, погоди ж ты, погоди!..
Я подрулил к ангару, затормозил, сорвался с сиденья, и как был, без шапки и шинели, пробежал через салон, рванул рукоятки запора двери и, распахнув ее, выпрыгнул в снежную жижу. Вознесенский, не оборачиваясь, удалялся от самолета.
Жгучий гнев охватил меня. В два прыжка я настиг Вознесенского, схватил его за плечо и рванул с такой силой, что треснул шов на рукаве шинели. Пошатнувшись, он круто повернулся ко мне лицом, в глазах его были страх и растерянность.
Задыхаясь от бешенства, я обеими руками держал его за воротник.
— Ах, ты уходишь?! Уходишь?! Ты не хочешь видеть, как мы обледенели?! Ты куда нас посылал, куда?!.
Я встряхнул его и отпустил. Он упал. И тут я вдруг увидел себя со стороны. «Что я делаю?! Что я делаю?! Опуститься до такого! Стыд-то какой, позор!..»
Вознесенский молча поднимался из мокрого снега. Сапоги его скользили, и он упал еще раз. Мне стало жаль его, и чувство острой досады и недовольства собой заполнило меня.
Смотрели люди. В глазах молодых штурманов светилось любопытство.
«Хороший пример. Хороший!»
Я повернулся и пошел прочь, забыв в самолете шапку и шинель.
Маршал Голованов поступил со мной более чем мягко: трое суток домашнего ареста и назначение в 124-й гвардейский бомбардировочный полк на должность комэска.
И вот, доложившись по форме, я стою перед командиром полка. Гвардии подполковник Гусаков Николай Сергеевич высок и мускулист. Сбит что надо. Глыба! Коротко, под ежик стриженная голова плотно сидит на богатырских плечах. Круглые глаза смотрят на меня с интересом. Погладив громадной лапищей тяжелый подбородок, сказал удовлетворенно:
— Хорошо, пойдем, я представлю тебя эскадрилье. — И зашагал, придерживая рукой висевший у бедра маузер в деревянном футляре.
Эскадрилья выстроена. Летчики, штурманы, воздушные стрелки-радисты, стрелки, техники, механики, мотористы. Коллектив. Люди. Каждый со своим характером, со своими мнениями, мыслями, переживаниями. Я должен им понравиться, но чем? Уж, конечно, не такими поступками, которых потом будешь стыдиться всю жизнь. Хотя… Черт побери, кто в своем поведении гарантирован от ошибок?! Каждый свой поступок заранее не предусмотришь. Человек — это характер: один флегматик, другой холерик. Я наверняка принадлежу к последним: завожусь с пол-оборота, взрываюсь по пустякам, а потом казнюсь…
Люди смотрят на меня выжидающе. Изучают. Каждое мое слово, сказанное сейчас, остро зафиксируется в их сознании и явится на первый случай предпосылкой для разных домыслов и предположений. А что я им скажу? Я не люблю и не умею говорить. Слова — это ветер. Себя надо показывать в деле, а это требует времени. Значит, лишь только со временем мы сможем понимать друг друга.
Читать дальше
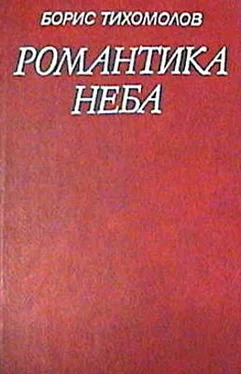


![Борис Сапожников - В чужом небе [СИ]](/books/29930/boris-sapozhnikov-v-chuzhom-nebe-si-thumb.webp)







