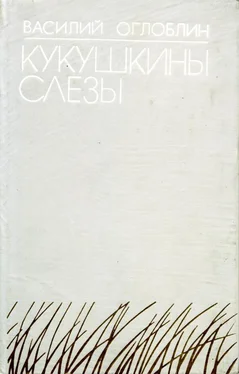Солдаты из роты Бакукина кинулись к последнему вагону, распахнули двери, но из вагона долго никто не выходил. И только когда заключенные поняли, что это не смерть, а избавление, стали неловко спускаться один за другим из вагона. Многие из них, хмелея от чистого воздуха, падали и теряли сознание. Живых в вагоне было около пятидесяти человек, остальные умерли в дороге от истощения.
— Сколько вас было и кто вы? — спросил Бакукин высокого парня по-русски.
Лицо парня дрогнуло. В глазах остро сверкнула радость и изумление:
— Ты русский?
— Русский.
— Да неужели правда?
— Правда, с какой стати мне врать вам.
— Откуда ж родом?
— Сибиряк.
— Елки-палки, сибиряк... чудеса! — Глаза парня вспыхнули радостью.
Грязно-серые, тусклые лица остальных тоже приняли живое человеческое выражение, все зашевелились и шагнули к Бакукину. Парень уронил ему бритую голову на грудь и зарыдал страшно, беззвучно, только все его высохшее тело содрогалось.
— Братушка, милый, если бы ты только знал, что тут с нами было...
Успокоившись, выплакавшись, он заговорил быстро-быстро, с ужасом поглядывая на горы трупов и горящие костры:
— Это горят русские, и в куче тоже почти все русские, было среди нас немного поляков и чехов, а больше все русские.
— Сколько вас было? Откуда вы?
Парень словно не понимал вопроса и молчал долго. На острых скулах, обтянутых сморщенной кожей, тяжело перекатывались тугие желваки, словно он мучительно напрягал память и никак не мог вспомнить ни себя, ни тоге, что с ним было. Глаза смотрели мимо Бакукина, на вагоны, и что они видели в той одному ему доступной дали, оставалось для всех тайной.
— Откуда мы? — повторил он вопрос Бакукина и опять умолк.
— Из Бухенвальда мы, — ответил вместо парня пожилой заключенный с мишенью на полосатой куртке. — Все из Бухенвальда мы, живые и эти мертвые.
— Из Бухенвальда? Братушки вы мои! — дрогнувшим голосом, глотая внезапно прихлынувшие слезы, вскрикнул Бакукин, меняясь в лице. — Из Бухенвальда. А ведь я тоже был в нем. Почти десять месяцев.
— Да ну? — изумился старик с мишенью. — Был в Бухенвальде? Чтой-то, браток, сумнительно. Бухенвальдцы-то бачишь какие, с креста снятые, а у тебя, извини уж за худое слово, рожа-то вон какая румяная. Сумнительно.
— Был, папаша, был, врать не стану. Да разве можно и врать в таком месте, перед ними вот...
— Перед имя врать не можно, — согласился старик. — Ну, можа, и был, а сюда-то как, к иностранцам-то?
— Долгая история, ребята. Работал я в команде смертников, бомбы невзорвавшиеся откапывали. Сбежал в июле прошлого года. Попал к французам. К партизанам. А теперь, как видите, в союзной армии воюю, фашиста добиваем.
— Гляди-ко, повезло тебе, парень. Счастливчик. Кабы в лагерю-то остался, то, можа, вместе с нами был бы, а то вон там, на кострах... — Он осекся. Виновато посмотрел на товарищей, словно сказал что-то ненужное, лишнее.
Парень недовольно покосился на него, опять устремил отсутствующий взгляд куда-то мимо стоявших плотной стеной американских солдат и офицеров, облизал сухие, запекшиеся губы и стал рассказывать быстро, торопливым дребезжащим бормотком, поминутно оглядываясь назад, на вагоны, будто кто-то мог его услышать там и перебить. В его расширенных глазах, словно раздуваемое ветром пламя, бился мятущийся ужас. Старший офицер попросил Бакукина переводить.
Вот что рассказал парень:
— В лагере последние дни было очень тревожно. Пятьдесят с лишним тысяч заключенных притаились и ждали, что вот-вот должна разразиться гроза. По ночам мы с тревогой и ожиданием вслушивались в глухую артиллерийскую канонаду. Мы знали, что идет освобождение или смерть. И беда стряслась. Дайте мне чего-нибудь попить, у меня во рту пересохло...
Американский майор крикнул своего ординарца и приказал дать флягу с коньяком. Парень жадно отхлебнул два глотка и закашлялся.
— Водка. Водички бы... водка теперя не по нашим желудкам.
Ему подали воды. Парень напился. Покосился на офицера и протянул флягу с водой своим товарищам. Они жадно, захлебываясь, стали по очереди пить.
— Восьмого апреля, — тихо продолжал парень, — в одиннадцать часов утра, репродукторы лагеря прохрипели приказ коменданта оберфюрера Германа Пистера: в двенадцать часов всему лагерю построиться на аппельплаце с вещами для всеобщей эвакуации. К нам в блок прибежал какой-то парень и прочитал воззвание: «Никому на плац добровольно не выходить, эвакуация — это смерть». Подпись под воззванием: «лагерный подпольный центр». А мы и не знали до этого, что есть какой-то подпольный центр.
Читать дальше