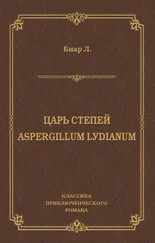Вечером пришла Ися, тщательно занавесила окна, чтобы, упаси господь, кто-нибудь не подумал, что в светелке кто-то живет. Потом принесла керосиновую лампу, поставила ее на столе рядом с фигуркой Иисуса и тихонько подошла к кровати.
Я притворился спящим, а сам посматривал на нее одним глазом. Левой рукой она подперла правый локоть, на правую ладонь положила щеку и, наклонив голову, стояла задумавшись, как скорбящий Иисус. Мелкие черты бледного лица выражали недетскую озабоченность, большие голубые глаза не отрываясь смотрели на мои забинтованные ступни, которые вылезли из-под перины и торчали высоко на подушках. Мать, наверно, рассказала ей, что я сам отрезал себе пальцы… Она глубоко вздохнула и, осторожно приблизившись, надвинула перину на ступни, укрыла две белые куклы. Я потянулся лениво, словно только что проснулся.
— У-у-ах… Это ты, малышка?
— Я, проше пана.
— Ну и спал же я! Наверное, теперь поздно?
— Мама уже коров подоила.
— А как Вацусь?
— Хорошо, проше пана. Кашку поел с охотой.
— Ну тогда все в порядке. Слушай, Ися, нет ли у вас книжек? Я столько времени не читал…
— У отца были. Сейчас принесу!
Притащила она целую стопку: руководство для командира взвода, историю 36-го полка Академического легиона, «Бои польской армии», «Историю военного дела», «Над Вислой и Вкрой» генерала Сикорского и кучу книг, посвященных рациональной обработке земли, разным искусственным удобрениям и азотам, выращиванию свиней, садоводству.
— А других у вас нет?
— Нет, отец только такие держал.
«Странный отец, — подумал я, — война и сельское хозяйство, больше его ничто не интересовало».
Делать нечего, я принялся читать все это подряд, начиная от руководства для командира взвода.
Просматривая заметки, нанесенные кое-где на полях размашистым и твердым почерком, я поражался метким наблюдениям, простоте вдумчивых поправок. Несомненно, это писал человек, не раз видевший взвод в бою. Я думал о том, откуда мог взяться здесь старый вояка и сколько дорог исколесил он в солдатских скитаниях, прежде чем осел в одинокой усадьбе на опушке.
Неделю спустя мне рассказала обо всем Гжелякова. К тому времени она уже освоилась со мной, поборола в себе застенчивость, перестала чувствовать разделявшее нас расстояние.
Я лежал, окруженный чуткой заботой, овеянный великолепной легендой. Ну как же: я сам сделал себе операцию, вылечил Вацуся, Кичкайлло рассказывал о своем докторе неслыханные вещи: что о «вскрыл ему живот, отрезал кишку и снова аккуратно зашил его; что он выбрался из окружения и три месяца воевал, а в лагере отдубасил капо, и ничего ему за это не сделали; в больничном бараке он возвращал к жизни покойников, а когда об этом узнали, — одурачил коменданта и бежал из лагеря…
В глазах Гжеляковой я был чуть ли не волшебником. «Что за мудрый человек, — думала она, — все умеет и никого не боится!».
Однако Ися быстро убедила мать в том, что волшебник в светелке — человек простой и веселый.
Я люблю детей, ты, верно, уже заметил это. Если б не увлечение медициной, я наверняка стал бы педагогом. Но тогда, в молодости, меня охватило честолюбие чудотворца: борьба со смертью, новые открытия — по меньшей мере новые методы лечения!
Я лежал один (Кичкайлло уехал в Ломжу за бумагами), мне было скучно, и я охотно беседовал с Иськой. А Иська каждую свободную минуту бежала наверх поболтать со мной. Ее интересовало все: правда ли, что в России мучают ксендзов, как одеты дети и во что они играют, что такое коммуна и почему весной птицы летят в ту сторону…
Однажды вечером наши разговоры пришла послушать и Гжелякова, в честь воскресенья одетая по-праздничному.
Она села, на скамейку возле кафельной печки и стала слушать.
Я рассказывал о своей станице в Сальских степях, о юношеских годах, о том, как отвоевывал образование…
— И мое учение несладким было, — заметила вполголоса Гжелякова. — Одни только унижения…
Видно, разговор этот запал ей в душу, потому что она вернулась к нему и в другой раз, когда была посвободнее.
Из ее рассказов, а также из бумаг Гжеляка я узнал следующую историю.
В 1911 году Антось Гжеляк пошел в солдаты. Он попал в пехоту в далекий город — Пензу, а город этот, как одинокий пень, торчал над рекой Сурой. Антось бездумно шагал в строю, лихо козырял, стрелял метко, как все курпяне, — получил даже знак отличия. По воскресеньям он ходил в костел на Лекарской улице (Ходил, ходил! Можешь мне верить, я бывал в Пензе: там есть небольшой костел). Вечерами лузгал семечки: кто же в Пензе не лузгал семечек в саду, где стоит бронзовый поручик, которого за стихи застрелили на Кавказе…
Читать дальше







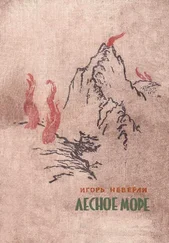
![Цаньцзянь Ли Дэ Ню - Проклятие Степей Кровавой Резни [ЛП]](/books/435457/canczyan-li-de-nyu-proklyatie-stepej-krovavoj-rezni-thumb.webp)