В воротах товарной станции царит неописуемая суматоха. Телеги и грузовики пробираются в обе стороны, кучера ругаются, растаявший на солнце снег фонтаном бьет из-под колес.
Михал побежал на первый путь, но здесь не было ни его товарной платформы, ни его вагона. Он спрашивает проходящего железнодорожника. Тот равнодушно пожимает плечами. Для достоверности Михал еще раз обходит здание таможни. Доверху нагруженный «фаэтон» стоит с другой стороны у стены. Головы лошадей скрыты в мешках, из которых через дырки вылезает сено. Неподалеку на пустых ящиках, сваленных у дома, сидят люди. Они курят. Среди них конвоир с завязанными шарфом ушами. Он сосредоточенно жует пайку черного хлеба. Они заметили Михала и смотрят на него с осуждением. Михал подходит к ним. Он ненавидит их в эту минуту.
— Уже погрузились? — неуверенно спрашивает он.
— А что вы думали? — ворчит Данец.
— Надо было подписать и ехать.
Конвоир задерживает в воздухе руку с хлебом.
— Если будет недостача, кто будет отвечать? — прошамкал он с полным ртом.
— Дайте спецификацию, — просит Михал.
Он с яростью вырывает из рук конвоира розовую бумажку, расправляет ее на ящике и не глядя подписывает.
* * *
Контора фирмы «Экспедитор» гнетет Михала еще больше, чем конюшня. Он всегда чувствует себя здесь виноватым. С широкой лестницы старинного дома через застекленные двери он попадает прямо пред очи шефа. Нет даже прихожей, чтобы перевести дух.
Когда-то это был бальный зал какого-то магната. На высоком потолке еще виднеются почерневшие лепные украшения. Теперь это большое помещение разделили временными перегородками из фанеры. Окна одной из его частей выходят на рынок, и здесь, среди великолепия светлого пространства, на фоне узорчатого турецкого платка, висящего на стене, за огромным дубовым столом, восседает сам шеф. Его окружают многочисленные знаки жизненного успеха и силы. Перед ним на зеленом сукне лежит плетеный хлыст с серебряной рукояткой. Рядом, за маленьким, по-детски хрупким столиком, сидит секретарша, панна Кика — большеглазая, гибкая, как змейка, тщательно накрашенная. Она без устали хлопает выгнутыми ресницами. Кажется, что она едва сдерживает дрожь восторга, которая охватывает ее в ожидании приказов начальника. В глубине из золоченых рам глядят изображения породистых собак и лошадей. Это, разумеется, лошади не из конюшни на Цельной. Самые изысканные англо-арабы с втянутыми боками, сухими, жилистыми ногами и маленькой плоской головой, обращенной к зрителю нервным и гордым движением длинной блестящей шеи.
Между шефом и этими животными существует заметное сходство. Он тоже соединяет в себе рафинированную элегантность и силу. У него длинные стройные конечности, молодое костлявое лицо, тонкие губы, высокий лоб с вдавленными висками и выражение холодной надменности в серых глазах. Тщательно прилизанные волосы так светлы, что издали шеф кажется лысым и, несмотря на молодость и энергичную линию челюсти, он напоминает хорошо сохранившуюся мумию.
Остальной персонал, две пожилые стенотипистки дворянского происхождения и бухгалтер с больным пищеводом, сидят в другой, более темной части зала. Там же, в углу возле перегородки, стоит столик Михала, за которым он проводит каждый день по несколько минут, составляя сводки о расходе фуража и отчет о сделанных рейсах, согласно доставленным ему накладным. Розовые, желтые и белые бумажки — все они враги жизни, все они делают ее невозможной.
Сейчас, входя через стеклянную дверь, он сразу же замечает, что этот день не такой, как все. Повсюду звучат веселые возгласы. Кика стоит за высокой спинкой кресла шефа и трется о плечо работодателя тугой грудью. Шеф, наклонив к ней голову, смеется, обнажив ровные белые зубы. Его волосатые костлявые руки свободно лежат на зеленом сукне, издали блестит массивный перстень с печаткой.
Михал окидывает контору быстрым взглядом. Деревянная стенка делит зал до половины, поэтому, стоя в дверях, можно видеть все помещение. На каждом столе он замечает перевязанные цветной лентой кульки со сладостями и пряничного, покрытого глазурью святого Николая. Только его столик в углу пуст. На нем нет ничего, кроме стопки накладных.
Михал говорит себе, что это его не трогает, что ему все равно, но вместе с тем он знает, что от него смердит конским навозом, и понимает, что вторгся в это веселье, как Пилат в символ веры.
Он неловко кланяется и спешит в свой угол.
Читать дальше
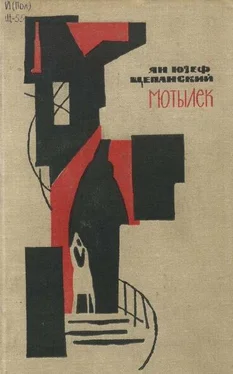



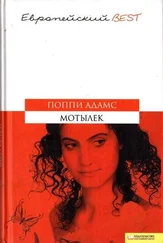

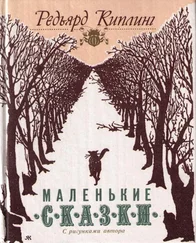

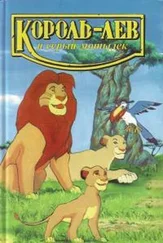
![Марина Буторина - Мотылек-самоубийца [СИ]](/books/417956/marina-butorina-motylek-samoubijca-si-thumb.webp)