Катафальщики правы. Они приседают, визжат от смеха, когда Каштанка, храпя, выпускает газы.
— Давайте подсовывайте ремни, — говорит Михал.
Все знают, что это единственная мера, но каждый раз обманывают себя и надеются, что обезумевшая от боли лошадь сама вскочит на ноги, избавляя их от мучений.
Они неохотно связывают холщовые пояса, ремни от шлеи, постромки. Их ненависть к лошади растет с каждой минутой, выливаясь в поток проклятий и оскорблении. Нелегко поднять круп такого большого животного. С помощью катафальщиков они тянут ее за хвост, за ноги, поднимают, подталкивают. Спереди немного легче, потому что животное висит на уздечке. Наконец они перебрасывают концы импровизированной лебедки через стропило.
Теперь тянут все вместе. Раз-два! Взяли!
Михал поручает командовать Данецу. Ухватившись за шершавый канат, сдавленный плечами товарищей, Михал напрягается, приседает, сгибает позвоночник дугой. Конюшня гудит от стука бьющих в доски копыт, в воздухе густая пыль, соломенная труха набивается в нос и горло, Папула хватает кнут и бьет лошадь по крупу, по шее, куда попало.
Вдруг канаты ослабевают, люди приседают до самой земли.
— А, сукина дочь! — кричит с облегчением Данец.
В желтом свете лампы, в мутном свете сереющих над яслями узких окошек постепенно оседают клубы пыли. Огромная лошадь стоит на шатающихся ногах, дрожа всем телом. Наклоняется вперед, прогибает худую спину и неожиданно выпускает горячую струю мочи. Брызги отлетают на вспотевшие лица людей.
— Лей, лей, голубушка, — любовно говорит Вишневский.
* * *
День пробивается постепенно, с трудом. Над платформами и путями товарной станции нависла мгла. Фонари железнодорожников колеблются в бескрайнем просторе, окруженные радужными ореолами. Голоса звучат удивительно громко и четко, а пронзительные крики маневровых паровозов доносятся как будто бы издалека, как сквозь воду. Очень холодно. Припорошенный сажей, истоптанный снег скрипит под ногами.
Сегодня у них под разгрузкой только один вагон. Стоя на заиндевевшей платформе, с блокнотом и карандашом в окоченевших руках, Михал с завистью смотрит, как ловко двигаются четверо его людей, разгоряченные, без курток.
Перед телеги уже заставлен деревянными бочонками с мармеладом. Сейчас выносят стопки картонных коробок. Некоторые коробки повреждены. Из них сыплются конфеты. Никого это не трогает. Иногда кто-нибудь из рабочих наклонится, обметет конфету перчаткой и спрячет в карман, но чаще деревянные подошвы давят рассыпанное добро. Стоящий у дверей вагона конвоир смотрит на это с полным равнодушием. Он заросший, грязный, уши завязаны шерстяным платком, ботинки обмотаны газетами. Много дней и ночей провел он среди этого богатства. В его теле не осталось ни капли тепла, а вид сладкого вызывает у него тошноту.
Для Михала товарная станция — место фантастическое. Он не может привыкнуть к презрению, с которым здесь относятся к вещам, о которых простой смертный не смеет и мечтать. Бочки французских вин, ящики золотых апельсинов из Испании, пачки светлого болгарского табака. Со всем этим обращаются как попало. Роняют ящики, выбивают плохо забитые пробки. Потом солидные немецкие чиновники с толстыми шеями составляют акты, грозно глядя поверх очков, а свидетели — конвоиры, экспедиторы, начальники эшелонов — сокрушенно качают головой. Полные важности, они исчезают затем в коридорах серого здания таможни, где дальнейшие формальности носят уже конфиденциальный характер.
Работа на товарной станции считается одной из наиболее выгодных как для поляков, так и для немцев. Михал знает об этом, но, хотя бывает здесь часто, остается по-прежнему новичком в этом таинственном, закрытом для непосвященных мире изобилия. Он чувствует, как возчики презирают его за это. По правде говоря, он немного им завидует — но не настолько, чтобы попытаться вторгнуться в их секреты.
Он старательно пересчитывает коробки, сознавая всю бессмысленность и нелепость своей педантичности. Количество, конечно, обязательно сойдется. «Кажется, это уже праздничный паек, — думает он. — Но кто его получит? Может быть, дадут граммов по триста на специальные карточки. Но вероятнее всего, в газетах появится сообщение, что «население генерал-губернаторства добровольно жертвует дополнительный паек героическим солдатам вермахта». Мысль, что они опять будут обмануты, доставляет ему какое-то грустное удовлетворение. Он не анализирует это чувство. Оно банально. По сути, все хотят идеала: чтобы подлость была как можно подлее, как можно мельче, лишенная всякой возможности оправдания.
Читать дальше
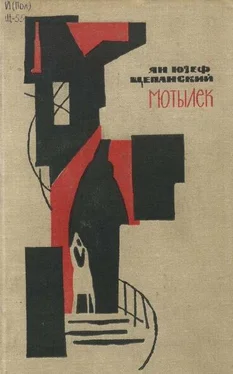



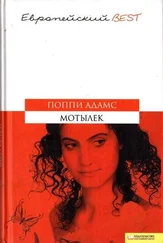

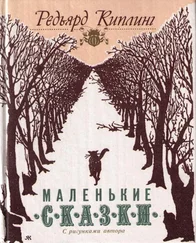

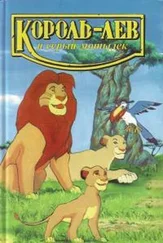
![Марина Буторина - Мотылек-самоубийца [СИ]](/books/417956/marina-butorina-motylek-samoubijca-si-thumb.webp)