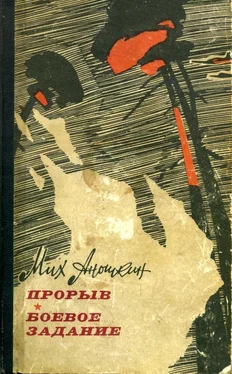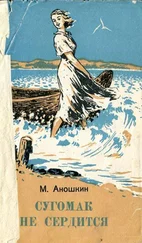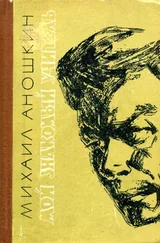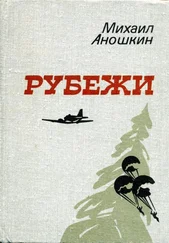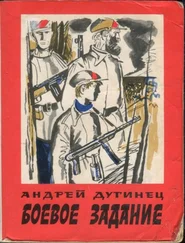Ох, как это не просто! Возможно, старшина Мошков глубоко несчастный человек? Жизнь сложилась трагически не потому, что он яро стремился к этому, конечно, нет, она безжалостно бросила его в водоворот, и только сейчас он смог из него выкарабкаться, и попал под мою горячую руку? Я ведь знаю, как фашисты вербуют себе наемников, не все идут по своей воле, иных доводят до отчаяния и не оставляют иного выхода. Либо смерть от пыток и голода, либо ненавистный, чужой мундир. Я бы сказал — лучше смерть, лучше муки, но только не позор, только не брать в руки оружие, которое придется направить против своих же братьев — советских людей! Родион тоже пресмыкался, кто бы мог подумать! Кто бы мог подумать, что Родион будет стрелять в него, в Давыдова, а ведь стрелял, иуда! Когда в сорок втором схлестнулись с немцами и полицаями, то захватили в плен полицая Родиона. Лежал мерзавец за пулеметом и бил по партизанам. На него навалились сзади. Здоровый бугай сбросил с себя напавших, но уйти не удалось. И привели Родиона к комбригу, истерзанного, в синяках, с дикими глазами и со скрученными назад руками. И глазам своим не поверил Давыдов: Родион?! Значит, пулеметчик, который прижал партизан к земле, который убил троих, вот они лежат на тех местах, где их настигли пули, значит, этим пулеметчиком был Родион?
У Давыдова потемнело в глазах, он думал, что с горя разорвется сердце. Родион, с которым они дружили с детства? Ходили на посиделки? Гуляли друг у друга на свадьбе? Родиона взяли в армию в первый день войны, и ничего о нем не было слышно. Считали, что пропал без вести. Давыдов надеялся — сыщется друг, еще повоюют они вместе. И вот он Родион. Стоит истерзанный, в синяках, прячет блудливые глаза, а вон там лежат трое советских парней, погубленных им, а сколько он погубил до этого?
Разве забудешь жертвы гитлеровцев и их холуев? Был тяжелый затяжной бой с карателями. Ночью отряд покинул позицию и оторвался от преследователей. Длительную стоянку решили сделать в густом еловом лесу — отдохнуть, привести себя в порядок после изнурительных боев. И то, что партизаны увидели на новом месте, их потрясло. Двести женщин и детей скрылись от фашистов в лесу. Построили шалаши, чтоб переждать в них лихолетье. Но гитлеровцы обнаружили лагерь и расстреляли всех. Трагедия свершилась совсем недавно, за несколько часов до прихода партизан. В живых осталась лишь одна девочка, лет двенадцати, но и та была тяжело ранена. Она увидела подходящего к ней Давыдова. Неописуемый ужас стоял в ее глазах. У девочки были перебиты ноги, она поползла прочь, оставляя на опавших колючках и траве кровавый след. У Давыдова перехватило горло, стало трудно дышать. Он проговорил хрипло:
— Куда же ты, доченька?
Девочка бессильно упала. Он нагнулся над ней и услышал жаркий умоляющий шепот:
— Не надо, не надо... Не стреляйте... Я уже ранена... — и вдруг как закричит на весь лес:
— Не стреляйте! Я жить хочу!
Это забыть? Забыть, что Родион бил по нашим из пулемета? Быть хладнокровным? Мошкова и ему подобных мерзавцев с хлебом и солью встречать, когда они вдруг надумают сдаваться в плен? Конечно, я не ангел. Нервы у меня расшатаны, хорошо знаю, погорячиться могу. После войны буду приводить их в порядок. А что мне делать, если каждый раз, когда я встречаю Мошковых и им подобных, перед моими глазами стоит раненая девочка и я слышу отчаянный недетский крик:
— Я жить хочу!
Нет, не мог быть хладнокровным Давыдов, видя перед собой врага, хотя и безоружного. Ему рассказывали, как издевались над братом Сережкой гестаповцы. Загоняли раскаленные иголки под ногти. Прижигали железом щеки. Отрезали уши. Нагишом провели по морозу к месту казни. Восемнадцатилетнего Сережку, единственного брата. Мать умерла, когда Сережке было всего три года. Отец пил беспробудно, допился до горячки и попал в психиатрическую больницу. И Давыдов сам растил брата, помог окончить девятилетку, хотел определить в институт. А вместо института — война. За голову Давыдова оккупанты сулили богатую награду — денег, земельный надел, живность. Сережка попался нечаянно — ходил в разведку. Возможно, удалось бы ему и вырваться из плена. Однако какая-то продажная шкура донесла — это брат Давыдова! И Сережкой занялось гестапо. Черные мундиры по части зверств были профессорами.
Ярость против захватчиков клокотала в нем. Словно заклинание, словно исповедь, шептал он слова партизанской клятвы, которую помнил наизусть и которая сполна отвечала его душевному настроению:
Читать дальше