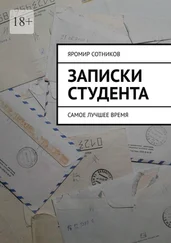Мне досталась твоя тетрадь: «СБОРНИК СТИХОВ И КУПЛЕТОВ ВОЕННОГО 1915/1916 ГОДА».
Я знаю, как появились эти стихи, знаю, где они были написаны и где переписаны начисто.
Вот это — в лютый мороз в снежном сугробе у черногорской Рожайи, это у подножья горы Чьяфа Малит, в хижине албанского пастуха, вот это — в квартире зубного врача в Крагуеваце, а эти нежные строки ты сочинял, когда мы вместе искали брод через разлившуюся, зеленую от бешенства Мати.
… в дом к тебе я пришел, мне яички пасхальные нравятся,
стал тебя целовать-миловать, называл красавицей…
«Песнь пленника» ты закончил у подножия горы, на которой стоял албанский монастырь Рубики.
Тогда с моря дул влажный, соленый ветер, на склонах пылали золотом кусты самшита, нас окутывал теплый воздух, а из монастырской твердыни на наш лагерь смотрели черные монахи.
В стихотворении ты горюешь о том, что был обманут первой военной весной, которая не принесла с собой мира, а потому с тем большим жаром приветствуешь вторую весну, 1916 года, как весну-искупительницу.
Я ждал, что жаворонок принесет весенний
нам слово сладостное: примиренье.
О боже, пленным братьям пожелай
вернуться в Чехию, в любимый отчий край.
Дай силы ношу снесть. А там — возьмемся смело
за новое и радостное дело.
Чешская история была для всех чехов учительницей жизни. Какой чех не мечтал бы повидать места, где скрывался Ян как изгнанник и пленник — Ян Амос Коменский, учитель народов и выдающийся просветитель.
Чехи-солдаты, вспомните Коменского!
Вспомните, каким гордым чехом он был, непоколебимым приверженцем чистого учения Христова, истинным сыном родины — даже в эпоху гонений и позора, которые пятном легли на его страну с тех самых пор, когда чешские дворяне в Праге пролили свою кровь на Староместской площади. Ох, как страшно, как скорбно было тогда на земле чешской! Дым сожженных сел, точно так же, как сегодня в Сербии, поднимался к небу и зловещим драконом нависал над нашей несчастной родиной.
Голову свою, брат, ты сложил на сербской земле.
Ты отправился вперед, чтобы подыскать место для лагеря. А нашли мы тебя в горной лощине убитого и ограбленного пруссаками.
Они разбили тебе голову прикладом.
Ты лежал в грязи, голый, сжав кулаки.
Мы знаем, не дешево отдал ты свою жизнь.
Молча стояли мы над телом твоим, прекрасный, чистый человек, идеалист, верующий чешский брат!
Ты, как и многие тысячи наших парней-чехов, павших за чужие интересы, достоин мученической короны, великолепной, драгоценной и незабываемой!
Льеш, Албания, весна 1916.
Я влюбился в тетю Лалу так смятенно, горячо и безоглядно, как влюбляются только в гимназические годы.
Она была моей первой любовью.
Перезрелые плоды сладки. Дядин дом при пардубицкой мельнице был полон каким‑то особым ароматом ее отцветающей прелести. Она была в моих глазах олицетворением женской красоты и добродетели. А я был неуклюжим подростком, не знающим, куда девать свои руки, длинные, как плети, и ноги, казавшиеся мне приставленными к телу ходулями.
Теперь, когда в моей памяти всплывает ее облик, я нахожу в ней сходство с одним из игроков, худощавым и плутоватым, что изображен на картине Караваджо.
И верно, у нее было лукавое выражение лица, как у озорного мальчишки. Прямой тонкий носик, маленький пухлый рот, миндалевидные глаза и непомерно густые черные волосы, которые она причесывала а-ля принцесса Стефания: спереди высокий зачес, а вокруг головы толстая, короной уложенная коса. К голове удлиненной формы плотно прилегали словно вылепленные из розового фарфора музыкальные раковинки ушей со спущенной на них прядью волос, которая трепетала при движении наподобие тетеревиного перышка.
Но что придавало ей особое очарование, так это ласковое отношение к людям, животным, цветам и вещам.
Когда она, стянутая корсетом, несколько чопорно, величаво вышагивала в своих лакированных туфельках, она казалась мне римской патрицианкой, сошедшей со страниц школьного учебника истории. Платья ее были таких расцветок, каких я не видывал ни на одной женщине. Во всем что‑то свое, необычное. К примеру, кружевные манишки, на которых сверкала брошь в форме подковы, усыпанной бриллиантами. Узкие рукава, облегающие плечи, по‑девичьи нежные, оканчивались манжетами на перламутровых пуговичках.
Сдержанность ее, умение владеть собой, словом, ее аристократичность приводили меня в священный трепет.
Читать дальше

![Яромир Тишинский - Вечная осень нового мира [СИ]](/books/35127/yaromir-tishinskij-vechnaya-osen-novogo-mira-si-thumb.webp)