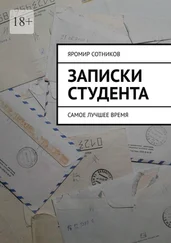Среди прочей одежды была там дамская пелерина с узким кантом и помпончиками, та, что потом носил этот негодяй Петр Грдьянович, и уж как выхвалялся, цыган, когда нацепил поверх свою драгоценность — контрольные часы из проходной, на ремне, который тоже где‑то украл. При этаком одеянии Петр носил немецкую каску, ходил босиком и грыз голову сахара, а когда под Губеравцем она размокла и превратилась в кашу, он разревелся.
Сколько бы раз на дню, сидя в седле, я ни оглянулся, столько раз я видел, как старательно ты печешься о наших ребятах-чехах, как носишься галопом на горбатой сербской кобыле, которой ты заботливо смазывал разбитые копыта.
Ты умер, поэт, а я думал о тебе в эти пустые, тяжкие, как свинец, часы во время марша по Шара-планине, когда в затерянных ущельях, в грозу, дьявольски разбушевавшуюся стихию, мы все обращали взоры к разъяренному небу. «А сверкают ли сейчас молнии в Чехии, — думал я, — в той заброшенной слесарной мастерской в Костельце, где, наверное, теперь по ржавой пыли бегают мыши и растят потомство в угасшем очаге».
Ты умер, и все-таки вместе с нами ты шагал по горным хребтам в метель, рассекавшую нам лица в кровь, долинами смерти с мрачными бурыми склонами, через горные седловины с предательски острыми скалами, ты был с нами, наш ангел-хранитель, когда мы ночевали в ледниковых пещерах, в халупах среди полуголодных дукашинцев.
Ты не покидал нас, когда мы голодали, болели дизентерией, впадали в отчаяние и в апатию.
Пусто было в наших сердцах после того, как, завалив твое тело камнями, мы уходили молча, а было нас сто тридцать семь человек всех сущих языков и народов, лошадей двести, в том числе шестнадцать кавалерийских, ослов семь, два пса, волов два да отара усталых овец, гонимая против воли батраками Старка, этого местного богатея и неутомимого добывателя ракии.
Ты ведь уже не знаешь о том, что происходило после твоей смерти.
Что мы совсем запаршивели, что Слабигоуд, повар, выбил маленькому Пете три зуба, а Лука Ямчинович (тот длинношеий рыжий мальчишка с оттопыренными ушами), чтобы избавиться от коней, перерезал им сухожилия выше копыт (тебе ли рассказывать, что его лошади всегда плелись в хвосте), за это он получил двадцать пять ударов; что ребята откуда‑то принесли вырытый ночью мешок с копченым мясом и салом, а потом оказалось, что это девочка-албанка, похороненная в широкой блузе; что Перо в Засмрчи наложил в глиняную печь сухих дров, ночью они вспыхнули, и все офицерские портянки сгорели, мы едва не задохнулись в чаду; что Коровчуку дорого обошлось извлечение пороха из собранных патронов: он положил мешочек с порохом под голову и уснул у костра, голова его обгорела страшно. С тех пор как ты покинул нас, ты, самый порядочный, ребята принялись воровать — почувствовали, что нет твоей твердой руки, меня же они не боялись. И хоть бы с голодухи крали, так ведь нет, из озорства кормили лошадей хлебом, а сами мазались от холода салом, торговали с арнаутами и турками, а Василь Брентанович (тот облезлый старик) и верзила Мартин Петричевич забрали четыре корзины припасов, отвязали двух лошадей и айда в горы, дезертировали, где‑то прошатались, да куда им деваться? — как только еда кончилась, пустились за нами вдогонку, неделю питались дохлой кониной, и видел бы ты, как в лагере все радовались, когда они вернулись и на коленях униженно умоляли простить их.
Короче говоря, вся эта моя горная колонна — румыны, македонцы, шкипетары, куцовалахи — одно сплошное жулье.
Мы перебрались через сотни горных кряжей, перешли вброд сотни ручьев и рек, поровну делили и дождь, и грязь, и снег, и последний кусок хлеба, и последний глоток ракии, и брань, ибо с тех пор, как ты нас оставил, люди страшно огрубели.
Наконец мы дождались весны.
Стала пахнуть трава, горы зябко кутались в туманы, дуновение теплого ветерка доносилось из долин, отчего наше дыхание становилось легче, сердца свободнее, а души еще больше тосковали по родине.
Думаю о тебе сегодня, в тихий вечер, на снегу, в албанских горах, в долине племени дукашинцев.
Я знаю, ты сел бы по-турецки у пылающего костра, положил бы тетрадь на колени и сочинял бы стихи.
Чернильный карандаш в испачканной руке медленно нанизывал бы строку за строкой. Перед полуночью ты бы прошелся по спящему лагерю, подбросил лошадям сена, выругал охрану, вернулся к костру и продолжал бы слагать стихи, милый ты мой брат чех.
Ведь при жизни, когда ночью меня будил ружейный выстрел или я просыпался от страшного сна, твой костер все еще продолжал гореть, а возле него, низко склонившись, сидел ты и писал.
Читать дальше

![Яромир Тишинский - Вечная осень нового мира [СИ]](/books/35127/yaromir-tishinskij-vechnaya-osen-novogo-mira-si-thumb.webp)