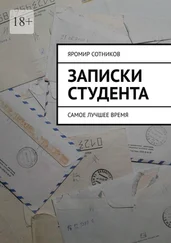Но на этот раз Пепик оказался неправ.
Вышло так, что в прошлом году, в мае восемнадцатого, прибыл господин граф со своей плясуньей в Вену, нанял ей квартиру, жил весело, но все же вспомнил про дом, про семью и дал телеграмму, что едет и чтобы послали Вацлава‑дедушку, значит, — с коляской на вокзал.
В тот день дедушка два часа ждал на вокзале скорого поезда.
Счастье еще, что не забыл взять корму для лошадей.
Наконец подполз, пыхтя, поезд, и выскочил из вагона господин граф в новом мундире — он уже стал полковником. Кормили в Италии, видно, хорошо — здорово растолстел.
Ремень стягивал его выпирающее брюшко, на груди бренчали награды. Был он сильно под мухой и сиял, что молодой месяц.
Бачки и щеточка усов были выкрашены, а красные уши торчали, как петушиные гребешки.
Навез он чемоданов с шелками и шоколадом и теперь бегал взад-вперед, орал на начальника станции, что‑то приказывал, наконец подошел к коляске вместе с носильщиком, который вез на тележке его багаж. Дедушка сидел на козлах, придерживал лошадей, снявши цилиндр с кокардой, но даже бровью не повел и ни одним словом господина графа не поприветствовал. Сидел как статуя, с непокрытой седой головой, не улыбнулся — думал о своем…
Когда погрузили чемоданы, господин граф закурил сигарету и спросил:
— Also, mein lieber Wenzel [162] Итак, милый Венцель… (нем.).
, что нового дома?
— Что нового? Ничего, ваша светлость, господин граф.
— Совсем ничего нового за такое долгое время?
— Совсем ничего, ваша светлость, господин граф.
— Итак, все по-старому?
— Все по-старому.
— И все в порядке?
— Все в порядке, господин граф.
— Ну так поезжай!
Отдохнувшие белые липицанские кони взяли с места, и коляска помчалась по дороге, недавно посыпанной щебенкой.
Граф расстегнул ремень и френч, развалился на обтянутых шкурой косули подушках и стал вспоминать о прелестной плясунье и о венских кутежах с шампанским.
От этих воспоминаний и после всех передряг он блаженно задремал.
Проехали Хлумчаны, взлетели на холм за Хвойным, с ветерком промчались мимо Брчиска и Вацлавиц.
Потом дедушка осторожно съехал по градешинской извилистой горной дороге.
И только в Юлианских лесах, за хиновской усадьбой, знаете, там, где часовенка и начинаются графские угодья, его светлость очнулся от хмельного сна — отрыжка разбудила, вытащил серебряную коробочку, проглотил пилюльку, потянулся, даже кости затрещали, и привстал, чтобы поглядеть на знакомые места и на коней.
— Черт побери, Венцель, почему хромает Артист?
— Почему хромает? Ногу ему заковали, ваша светлость.
— Заковали?
— Да все уже зажило, ваша светлость.
— А какой это осел приказал, чтобы коням так коротко стригли хвосты?
— Никто не приказывал, ваша светлость.
— Хороши порядки!
— Так надо было.
— Почему так надо было?
— Потому так надо было, что хвосты у них обгорели, ваша светлость.
— Что ты там мелешь?…
— Хвосты, говорю, у них обгорели, ваша светлость.
— Что болтаешь? Как это хвосты обгорели?
— Обгорели до половины — поджарились, ваша светлость, — не спеша отвечал дедушка.
— Каким образом? Что? Да говори же!
— Хвосты обгорели, когда у нас горело.
— Горело?
— Пожар был в декабре, ваша светлость.
— А что горело?
— Рига сгорела, службы, овчарня, все конюшни и одно крыло замка — все дотла выгорело.
— Проклятие! В декабре, говоришь… А почему? Кто поджег? Останови! Останови, черт возьми!
Дедушка натянул вожжи, свернул влево по шоссе к кучке щебня. Коляска остановилась на повороте, у лесной засеки, на склоне, где опускалась и подымалась пыльная белая проселочная дорога. С нее открывался вид на широко раскинувшуюся волнистую равнину, на которой виднелись усадьбы и хутора и пестрели квадраты господских полей.
Побуревшие от пота и пыли лошадки перебирали ногами, пофыркивали и отмахивались головами и остатками хвостов от тучи слетевшихся слепней.
Дедушка отпустил вожжи и засунул кнут за пояс.
Откинул полосатую попону, укрывавшую его ноги, изобразил почтительность, вроде как артист в театре, и повернулся к господину графу.
— Подожгла госпожа графиня — ваша матушка.
— Быть не может! Говори же! Что? Как? Почему?
— Почему старая барыня это сделала? Что ж, с большого горя пришлось ей это сделать.
— С какого горя?
— Ас такого горя, которого она уже больше вытерпеть не могла.
— Что? О чем ты толкуешь?
Дедушка замолчал, потому что ему уже надоело говорить. Подоткнул под себя попону, вытащил кнут и собрался трогать.
Читать дальше

![Яромир Тишинский - Вечная осень нового мира [СИ]](/books/35127/yaromir-tishinskij-vechnaya-osen-novogo-mira-si-thumb.webp)