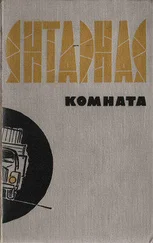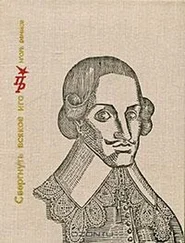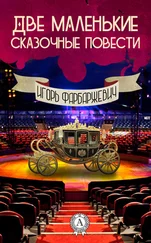Лагеркапо отпустил мусорщика, присел и повернулся лицом ко мне. В этой своей защитно-наступательной позе с острым задранным кверху рылом, готовый к прыжку, он удивительно напоминал огромную крысу на лагерной помойке. Капо был убежден, что я вот-вот брошусь на него. Но я равнодушно прошел мимо - нельзя же было вступаться за избиваемого - и встал у края ямы. Лагеркапо вернулся к прерванной работе. Сзади послышались стоны и рыдания. Я обернулся и крикнул:
- Хальт!
Лагеркапо остановился, принимая прежнюю позу.
- Ты что делаешь? - негромко, деловым тоном спросил я.
- А тебе какое дело, так тебя разэтак… - заорал лагеркапо. - Бью, потому что провинился, потому что мне так хочется. Может, запретишь?
- Можешь даже убить его, если это тебе нравится… Я не об этом спрашиваю. Я спрашиваю, что ты делаешь с мусором?
- То есть как - что? Сваливаю в ямы!
- Сваливаешь? Мусор?! Вместо того, чтобы сжигать… ты сваливаешь? - От театрального шепота я медленно переходил на крик и вдруг рявкнул во все горло: - А где микрофауна?
Лагеркапо вздрогнул, ища взглядом микрофауну: может, это команда какая, а может, забытая тачка? И тут, вырвав у него кныпель, я двинул его в бицепс.
- Ах ты, лагерная крыса! - орал я уже на весь лагерь. - Ты что, микрофауну разносить вздумал?!! Да ты знаешь, что в этих отбросах? Холерный вибрион! - И бац его кныпелем по башке. - Палочки тифа! - И бац по шее. - Дифтерийные палочки! Туберкулезные палочки!
Так я лупил его за все существующие на свете микробы, не забыв даже кокки и трипанозомы, лупил до тех пор, пока он не скрючился у моих ног и не завыл, как пес, с которого сдирают шкуру.
Такое смертельное избиение палача, как ты сам понимаешь, не могло пройти бесследно. Эсэсовцы за животы держались от смеха, слушая о том, как лагерарцт избил лагеркапо из-за бактерий, и выспрашивали названия микробов, которые он из него выколачивал. Капо, переводчики, блоковые и прочая «знать» были ошеломлены лихостью новичка, «серая» же масса, узнав, что Федюк лежит с разбитой головой и сломанным ребром, потирала руки от удовольствия.
И все вместе ожидали приговора коменданта.
Лагеркоммандант серьезно слушал мой рапорт обо всем происшедшем, пока я не дошел до того, как был вынужден защищать кныпелем санитарные предписания и требования гигиены. Тут он прыснул со смеху.
Даже такая, лишенная всякого юмора скотина, не могла удержаться от смеха при одном только сопоставлении понятий: этот лагерь и гигиена!
- Я должен был бы тебя повесить, - сказал он, наконец. - Но ты обладаешь фантазией и крепкой рукой. И действительно пригодишься гауптштурмфюреру. Можешь идти!
Больничный барак, завалившийся посредине (осенние потоки размыли фундамент), собственно говоря, держался на четырех кучках камней по углам, как избушка бабы-яги на курьих ножках. Черный, курной, он смотрел на помойку пустыми оконными проемами и был больницей только на бумаге.
Здесь не выздоровел ни один больной, здесь их вообще не было. Ежедневно, после утренней переклички, вагенколонна N 2 - двенадцать человек в конской упряжке - привозила умирающих. Ежедневно, перед вечерней перекличкой, та же самая вагенколонна вывозила тех, кто уснул здесь на утоптанной земле барака, уснул, устремив последний взгляд на костер, где свора коновалов варила «бульон» из картофельной шелухи.
Мне и теперь иногда снится этот барак, и я знаю: это был предел, на большее меня уже не хватит, не только на большее - даже на повторение этого.
Видно, несмотря на все, во мне было еще много энергии и веры в человека, если я отважился в тех условиях вступить в борьбу с уготованной нам судьбой!
В эту «умиральню» людей швыряли, как вещи в гардероб, швыряли, чтобы они как можно скорее сбросили с себя свою тленную оболочку. Только для этого. Я же эту оболочку хотел сохранить, сделать пригодной для будущего.
- Зачем? - удивлялся мой предшественник. - Мы все обречены на гибель. Не стоит удлинять мучения.
- Свои вы, однако, удлиняете! Например, выложили стены своей штубы матрацами, на которых могли бы лежать больные! Вы судорожно цепляетесь за жизнь!
- Только по привычке, - растерянно буркнул он в ответ и быстро вышел.
По привычке, пожалуй, остались людьми и некоторые санитары.
Есть сердца, как трут. Думаешь труха, а начнешь высекать искру, оно вдруг разгорится ясно, человечно, только диву даешься, откуда столько тепла появилось!
Именно таким был дядя Фрол, мастер-столяр из Борисова, кривоногий, невысокий, с бородой, как лопата, с непроницаемым выражением лица под густым покровом волос.
Читать дальше
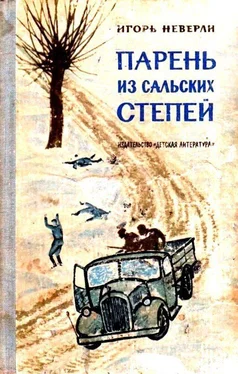
![Игорь Всеволожский - Отряды в степи [Повесть]](/books/34347/igor-vsevolozhskij-otryady-v-stepi-povest-thumb.webp)