Корабли ушли на восток. Финские снаряды неслись им вслед. Но открыли огонь батареи Гангута и заставили финнов замолчать.
Долго стояли на скалах Гангута матросы, провожая в Кронштадт караван.
В кают-компании на «Двести тридцать девятом», на узком диванчике под портретом Ильича, в полутьме лежал Алеша. Рядом с ним на краешке дивана сидела Катя — в белом халате поверх черной шинели и в синем берете, под который старательно убрала свои стриженые волосы. Щеки бледные, белые, как у Алеши. А глаза красные, воспаленные.
Катер набирал ход, и волны гулко бились о борта, много раз латанные. Бронекрышки иллюминаторов были по-боевому задраены, и Катя так и не видела уходящих назад берегов Гангута.
Дверцы в коридорчик были раскрыты, там тоже стояли носилки.
Кто-то открыл люк с палубы; сверху заструился свет пасмурного дня. На трапике показались ноги в грубых юфтевых ботинках; человек спускался по трапику осторожно, словно это был не матрос, а новичок, впервые попавший на корабль.
Это был Саломатин.
— Белоус! — тихо позвал он. — Командир приказал передать: отец провожает.
Катя вскочила, подбежала к трапику, выглянула в люк. В небе беззвучно парили два истребителя, и она не знала, на каком из них отец.
А Саломатин нагнулся к Алеше, и Алеша шептал ему:
— Командир?.. Где командир?..
— Другой у нас командир, Алеша. — Саломатин отвернулся и побежал; он спешил на мостик.
Саломатин задраил за собой люк, и Катя вернулась к Алеше.
— Отец обещал и проводил.
Катя посидела молча, слушая, не донесется ли сверху знакомый звук мотора, но катерные моторы все заглушали.
— Знаешь, Алеша, как больно было оставлять отца… — тихо заговорила Катя. — Я только один раз видела, как плачет отец. Это когда он разбился. В пургу. Мы жили тогда возле аэродрома, в одном доме с Борисовым и Антоненко. Я шла поздно из школы. Сани едут. Лошадью управляет Беда, он тогда служил мотористом у Борисова. Из-под полога торчат какие-то ноги в унтах. Я хотела вскочить в сани, а Беда замахнулся на меня хворостиной. Я не поняла. Меня никогда не обижали на аэродроме, и Беда мне разрешал залезать даже в самолет. Я добежала до дому, смотрю: сани стоят возле санчасти, а Беда с винтовкой на нашем крыльце и никого к нам не пускает.
— Чтобы матери не сказали, — подсказал кто-то из раненых.
— Ну да. Мама ничего не знала. Она стояла у окна и смотрела на аэродром, ждала отца… Потом пришли за мамой из санчасти. А меня, когда позвали, доктор, няни — все предупреждали: «Ты в руку целуй, в плечо, это твой отец». Я ничего не понимала. Я видела только бинты на подушке и глаза сквозь слезы… А потом мне даже казалось, что это были мои слезы… Я никогда больше не видела слез на глазах отца… Когда я была маленькой, он не выносил слез. Я всегда переставала плакать, когда отец входил. Ему хотелось, чтобы я была как мальчишка. Когда я родилась, мне даже игрушки приготовили такие: топорики, молоточки… Мама сердилась. Мама любила петь, танцевать. Когда я подросла, мама водила меня в балетный кружок. А отец заставлял ходить в штанах. Помнишь, как в школе смеялись, что я иногда приходила в штанах? Это отец меня так одевал. Он учил меня стрелять из нагана, на мотоцикле ездить. Он всегда твердил, что в наши годы это и девочке пригодится. Я в одиннадцать лет даже разбилась на мотоцикле… Уже когда война шла, я приехала из госпиталя на аэродром, а там был тир. Летчики упражнялись. Отец подвесил ветку ивы. «Перебейте», — говорит. А летчики не попадают. Он тогда зовет меня: «А ну, Катюша!..» С такой надеждой! Я из нагана могу, а из винтовки я плохо стреляю. И промахнулась. А тут стоял Антоненко. Он рассмеялся, подозвал Беду. Тот, конечно, перебил ветку. Он снайпером еще не был, но стрелял очень хорошо. Отец расстроился, а я чувствовала себя виноватой…
Завыл самолет, низко летящий над катером. Раненые заерзали, застонали. Катя успокаивала:
— Это наш: «И-шестнадцатый».
Но кто-то насмешливо бросил:
— Наш-то наш, да лезь в блиндаж…
А Катя слушала шум самолета и радовалась: она знала, чей это мотор.
— Когда началась война, — сказала она минуту спустя, — я вышла на балкон нашего Дома авиации. Вижу в небе огоньки — много огоньков. А с улицы знакомый матрос кричит: «Уходи с балкона, Катя, это фашисты стреляют». А потом, когда я из порта убежала — помнишь, Алеша? — я приехала на аэродром, выпросила у отца мотоцикл, помчалась в столовую. Там был Григорий Семенов, летчик, тот, что картину в «Красном Гангуте» напечатал: «Бой у Эзеля». Такой он веселый… Говорит мне: «Садись, Катюша, обедать». А я капризничаю: «Рыбки хочу, рыбки…» А Колонкин… Он сердитый такой был, потому что маскировку немцы с воздуха распознали… Он разозлился. «Рыбкой, говорит, тебя накормят, когда поедешь с Ханко через залив». Семенов на него чуть ли не с кулаками набросился. А я тогда твердо решила: «Ни за что! Ни за что не уйду с Ханко!».
Читать дальше
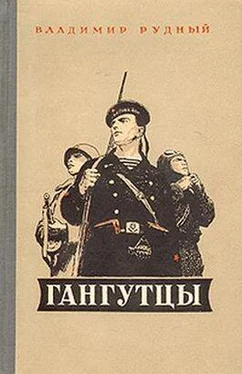

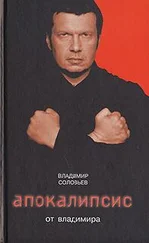
![Владимир Кузнечевский - Эпоха Владимира Путина [К вопросу об исторической миссии второго президента России]](/books/26247/vladimir-kuznechevskij-epoha-vladimira-putina-k-vo-thumb.webp)




