Наш ученый секретарь Борнеман, явно еще ни о чем не осведомленный, с удивлением уставился на мою новую форму и потащил меня к себе в кабинет.
Должно быть, мой нервный заряд искал выхода. Я решил похитрить с этим тугодумом, который был правой рукой Орби во всем, что касалось формальной и хозяйственной стороны дел лаборатории.
— Разве вы не знаете о моем отъезде в армию? Я был уверен, что шеф информировал вас об этом. Но все равно не стану скрывать от вас ничего. Я еду потому, что дела, связанные с реализацией «плана Орби», требуют присутствия специалиста.
— Черт возьми, — пробормотал он, оглядываясь на дверь, — так неужели дело с бомбой продвигается так быстро?
Я многозначительно промолчал.
— Тогда мы разом покончим свои дела и на Западе и на Востоке!
Я пригласил его выпить со мной на прощанье бутылку рейнвейна.
Мы расстались друзьями, уверяя друг друга в сожалении, что не сблизились раньше.
Вечером в вагоне, по дороге на фронт, я, кажется, впервые с ужасающей ясностью отдал себе отчет в том, что произошло: «Орби делает новое оружие! Результат может стать самым чудовищным, самым трагическим для всех нас…»
На этом записки обрывались.
Доктор Тростников потер себе лоб и прошелся несколько раз по комнате.
Он провозился с чтением довольно долго, так как некоторые места в рукописи были неразборчивы. Бумага на сгибах стерлась, очевидно, пленный носил ее в кармане уже давно.
Кажется, уже утро.
Доктор был не на шутку встревожен тем, что он прочитал сейчас, и казался порядочно озабоченным.
Надо было что-то делать, на что-то решиться, что-то предпринять. Но что?..
Доктор заглянул в комнату из своей ниши. Паренек спал на диване, не раздевшись, положив перевязанную бинтом ногу на стул. Дыхание его было ровным и тихим, но лоб хмурился во сне то ли от сновидений, то ли от боли. На кровати у дверей спала Тоня. Из-под одеяла был виден ее затылок в крупных кольцах темных волос и тонкое, еще детское плечо.
Доктор вздохнул, направился к окну и откинул бумажную штору.
На сумрачном небе виднелись похожие на кровоподтеки, бедственные отсветы дальних пожаров.
Внизу кто-то громко забарабанил в террасную дверь. Послышались чьи-то голоса. Доктор с сожалением посмотрел на приготовленную постель, затем отодвинул ящик письменного стола, засунул в него записки немца и, осторожно пройдя мимо спящих, спустился во двор.
Какой-то немец в пилотке осветил ему лицо карманным фонарем.
— Во ист хир дер арцт?
— Доктор я, — сказал Тростников тоже по-немецки.
— Одевайтесь немедленно. Вам нужно следовать за нами.
— Хорошо, подождите меня здесь, — сказал Тростников.
Он вернулся в дом. И Тоня и Смолинцев проснулись и, испуганные, молча сидели на своих постелях.
В эту ночь им было уже не до сна. Доктор ушел с немцами. По небу с прежней независимостью плыли куда-то тучи, в редких просветах влажно сияли звезды. Было совсем тихо и невыразимо тревожно. И эта общая для обоих тревога, кажется, впервые по-настоящему сблизила их.
— Ты, наверное, очень любишь отца? — спросил Смолинцев. — Ведь вы всегда вместе. Мы с мамой тоже так, и поэтому чуть что — начинаешь о ней волноваться. Боюсь, что и я не выхожу у ней из головы. Во время войны это мешает, правда? Гораздо лучше, если бы не было такой привязанности.
— Почему же?
— Это способствует малодушию. Так мне иногда кажется. Вот, например, представь себе, что надо умереть. Или так получится помимо нашей воли. Сам ты можешь быть вполне готов к этому. Но когда вспоминаешь о матери, всегда делается невыносимо. Как бы я хотел, чтобы мама сказала мне: «Умри, не бойся, умри! Я понимаю, что это необходимо, я вынесу!»
Глаза его светились в темноте. Она видела их, чувствовала их блеск.
— Иногда мне кажется, что я сознавал бы себя более сильным человеком, если бы был совсем одиноким, — сказал он убежденно.
Для Тони эти слова прозвучали жестоко. Ее девичье сердце томительно сжалось. Так вот почему он бывает иногда таким угрюмым! — подумала она.
Но за болью этих раздумий она безошибочно чувствовала его силу. Собственный страх и ежедневная боязнь чего-то ужасного показались ей неожиданно жалкими в эту минуту.
Потянувшись, она нашла в темноте его руку и молча сжала ее.
Рука у него была упругая, горячая и сухая.
На рассвете доктор вернулся.
— Приехала комендатура, — сказал он. — И там у одного из них заворот кишок. Он, видимо, и есть комендант. У них свой врач и еще фельдшер. Но врач — хирург из «мясников», а фельдшер пьяный и не держится на ногах. Им повезло, что я остался: случай был трудный.
Читать дальше
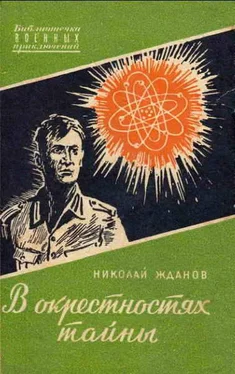



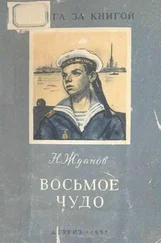

![Николай Жданов - Минута истории [Повести и рассказы]](/books/423747/nikolaj-zhdanov-minuta-istorii-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)




