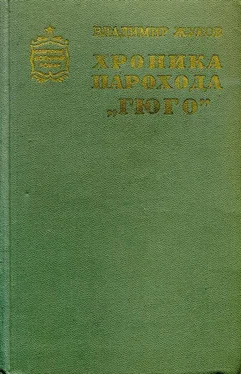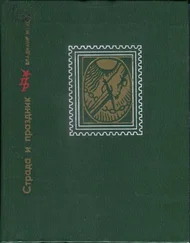Насыпь оказалась выше, чем я предполагал. Мы перекатывались друг через друга, сцепившись, как два борца. Я больно ударился плечом о камень. Жогова стало вдруг относить от меня, и я схватил его за ухо, наверное, и опять отпустил. Федька хрипел, задыхаясь, ногой он больно ударил меня в живот; мы еще несколько раз перевернулись, наваливаясь друг на друга, и наконец грохнулись во что-то мокрое, липкое.
С неизвестно откуда взявшимся умением я нащупал у Жогова запястье, сжал и вывернул, заломил до лопатки его почти бессильную руку. И тотчас же сорвал свою чудом уцелевшую на голове фуражку, придавил к его лицу, гася протяжный, словно бы волчий вой.
Больше всего я опасался, что шофер спустится с насыпи сюда, вниз. С двоими мне было ни за что не справиться — я почему-то считал, что шофер обязательно примет сторону Жогова. Но он не спустился.
Я слышал, как взревел дизель — с новым вентиляторным ремнем — и смолк. Шофер ходил по краю насыпи и кричал, подзывая нас. По шоссе пронеслась машина, осветив автобус туманным светом. Потом еще долетали крики шофера — недолго, и наконец автобус укатил.
Дождь настойчиво стучал по луже, где мы все еще лежали с Федькой. Вернее, лежал он, а я сидел на нем, удерживая заломленную назад руку и фуражку, которую Федька остервенело грыз, словно фуражка была главной причиной его отчаянного положения.
Как он вырвался? До сих пор не могу понять. Наверное, оттого, что я потерял бдительность — обрадовался, что автобус укатил. Почувствовал вдруг удар в пах, тягуче-болезненный, и полетел навзничь. Затылок окунулся в воду, обдало холодом, но смутно — точно не главное — я с ужасом следил, как Федька скользит по грязи, разбрызгивая воду, распрямляется, увеличиваясь в росте. Через секунду он уже бежал к кустам.
Я пытался вскочить, скреб пальцами мягкое дно лужи, и как бы сам собой в руке оказался камень. Не выпуская его, я кое-как вывернулся, шлепнулся коленом в воду и метнул булыжник в расползающийся, еле видимый сквозь дождь силуэт.
— О-о-о-е-е-ей!
Крик, долгий, несдерживаемый и вдруг оборвавшийся на высокой ноте, обозначил, что я попал в цель.
— Не ушел, гад, — сказал я вслух, шаря в сумраке, удивляясь непривычной хриплости своего голоса, странного, почти чужого. — Не ушел...
Федька лежал боком на склоне, подогнув коленки, — так спят обычно в постели. Дождь звонко шлепал по его намокшему, вымазанному глиной макинтошу.
— Понял? — опять вслух сказал я и снова удивился странному, чужому звучанию своего голоса. — Понял, как убегать? Ну говори же! — И дернул его за набухший, жесткий, как трюмный брезент, рукав.
Мне больше всего на свете нужно было сейчас, чтобы он ответил. Я готов был разрешить ему бежать от меня сквозь кусты в лес, только бы он не лежал вот так, молча, уткнувшись щекой в кочковатую, пропитанную водой траву.
Но Жогов молчал. Я перевалил его на спину, потом снова на бок, взял за подбородок, потряс. В мутно проступившем вдруг, как бы сразу, предутреннем свете я видел, как стекают по Федькиным щекам дождевые капли, и щеки были мертвенно-бледные. И тут же, пугая и объясняя все, за ухом обнаружился резкий, раздвинувший редковатые волосы след моего камня — багровый, с разодранной кожей по краям.
Страх, безумный, не изведанный еще даже в эту проклятую ночь, тошнотой подступил к горлу. Я заметался вокруг безжизненного тела Жогова. Бесцельно, суетливо.
— Федя! Федор!.. Я не хотел. Понимаешь, так вышло... Слышишь?
Распластал его навзничь, стал тереть ему щеки. Вода вроде сошла с них, но они были все такие же бледные.. И тогда я закричал, громко, мне казалось, так громко, что должны услышать даже в Калэме, в проклятой Калэме, где все происходит так глупо, так чудовищно безнадежно:
— Э-эй! На по-о-о-мощь!
Эхо в промокшем лесу не получилось. Только в ушах отдалось: «о-о-мощь». И тут же на вершину насыпи вылетел автомобиль.
Я побежал, размахивая руками, крича, добрался до крутого склона и полез, срываясь с глинистых, скользких уступов.
Поднялся невысоко — шум удалявшегося, затихавшего постепенно мотора говорил, что наверху делать нечего.
Невдалеке, под основанием насыпи, я увидел бетонную трубу, широкую, наверное, в два человеческих роста, сквозь нее слабо сочился ручеек. Это открытие мне показалось чрезвычайно важным, и я вернулся к Жогову, с трудом поднял его, подхватил под ноги и под плечи и, раскачиваясь, стараясь не упасть, побрел по лужам.
Я положил Федора на сухое место, вот только ноги, как ни старался, оказывались в ручье. Но они были все равно у него мокрые, и я решил, что это в конце концов неважно.
Читать дальше