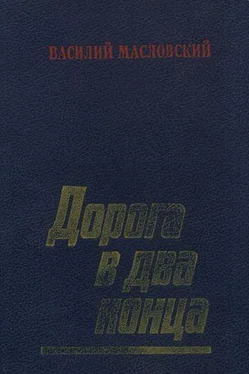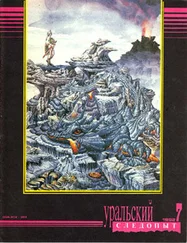— Значит, начальник, и за Днипро пойдете? — спросил дед.
— Пойдем, отец.
— Эге ж, и там земля наша. Идите, мы поможем.
В это время от повозок в кустах вышел высокий солдат в мыльной пене седины на висках и резкими складками в межбровье от напряжения. Он нес охапку смоляной пакли, в опущенной правой руке — топор.
— Андрей, Андрюшка! — тихо, как бы про себя и страшно растерявшись, сказал полковник Казанцев, увидев солдата.
Солдат постоял с минуту, удивленный окриком и крепче прижимая паклю к себе; лицо его мягчело, менялось, как бы оттаивало, и раздвинулось в радостной и счастливой улыбке.
— Витек!
— Это брат мой, товарищ генерал, — нетвердыми губами выговорил полковник Казанцев. В подглазье у него скатились одна, другая слезинки и, выбирая дорожки, покатились по щекам вниз. — Брат… родной.
— Я рад, товарищ полковник. Рад, — растерялся от неожиданности и командарм. — Случай, редкий случай… В пять вечера жду ваши соображения, — мгновенно переориентировался командарм и заговорил со стариками, интересуясь норовом Днепра, гиблыми местами, где и как переправлялись через реку раньше.
* * *
— Ну что, Андрюшка?..
Разговор между братьями не вязался. Они отошли к повозкам саперов, подальше от людей, присели на старом кротовьем бугорке. Оба знали, что встреча мимолетная, с другой, скорой, и загадывать не приходилось. Сказать и узнать хотелось так много, а куцее время бежало так быстро, что желание и бег времени мешали братьям начать разговор.
Вернулись рыбаки. Микифор стал копаться в повозив чуть в стороне. Старший Казанцев прогнал рыбаков.
— Это вы какой же дорогой шли к Днепру? — Виктор снял пилотку, положил, разгладил ее на коленях. — Через Радловку? Ну да. Для танков там удобнее, мостов меньше… А сейчас где?.. Черкасянский попросторнел, говоришь?.. Ага!.. Летом сорок второго я же рядом с домом проходил, забежать не удалось.
— А я, как освобождали, забегал…
— Скоро вертаться начнут.
Андрей покосился на полковничьи погоны брата, черные в ссадинах и трещинах пальцы свежевали сырой таловый прутик, с прутика лохмотьями свисала кора.
— Если и дальше так будет, к зиме к границам выйдем, — заверил Виктор.
— А потом?
— Лозунг «До Берлина!» читал? Ну так вот. — Бугристое межбровье Виктора поделили поперечные складки. Под глазами и на лбу Андрея отметил тонко выпряденные морщинки. На серых грязных щеках — следы стекавшего пота. Сердце кольнула жалость. Выросли врозь. На службу уходил — Андрею всего девять было. А сейчас вон парнище. Гимнастерку награды оттягивают. Не отводя взгляда от этих наград, попросил с дрожью в голосе: — Поберег бы ты себя. Мать, она, знаешь…
— Ты здорово бережешь своих?
— Стараюсь. Война — зараза. Дешево от нее не откупишься.
— Умирать кому охота, Витянь. Дома нас всех ждут. И матери у всех.
— Все же… Сухая у нас встреча. Закуришь?
— Не выучился, Витек… Да, да, плохой солдат… Оба лобастые, широкоскулые, схожие до мелочей.
Только Виктор походил на волка-переярка, в черном вороте которого уже завелись соляные остья седины; Андрей — молод, гибок и крепок как дуб-полевик.
— Ко мне в саперный не хочешь?
— Война везде одинаковая, Витянь. Совесть обоих замучит. Да и привык я к своим ребятам. Как-никак с Донбасса вместе. — Ребячья, забытая Виктором улыбка оживила и переменила лицо Андрея, омолодила его нежным румянцем. Однако кареватые, отлакированные уже не ребячьим блеском глаза в усталом прищуре смотрели незнакомо и откуда-то как издалека. — Ты вон каким важным стал. Скоро генералом будешь.
— Эх-х, век бы не видать этих чинов, Андрейка.
— Батя не нарадуется тобою. Офицер.
— Он все так же считает звезды по вечерам? — усмехнулся Виктор, вспомнив давнюю привычку отца.
— Зараз у него другие привычки и заботы. — Глаза Андрея отуманились, заискрились смехом. — А помнишь, я вам вертелку-ящерицу в каше сварил?
— Как же! — оживился Виктор. — У Сорокиной балки с батей пахали. Слышим: вертелку поймал, кричишь. Бате послышалось — перепелку, он тебе и крикнул: кидай в кашу. Ты и кинул.
Виктор глянул на Андрея, Андрей — на Виктора, рассмеялись оба и смеялись долго, с наслаждением, пока не вспотели у обоих глаза. Виктор ребром ладони снял слезы с ресниц, сказал:
— Ты же липучий, как смола, был. Пристанешь — не отвяжешься. Мы и взяли тебя на пахоту. Да потом, — глаза Виктора заблестели забывчиво, вольно, — ты же любимчик бати. Он тебе ни в чем не отказывал.
Читать дальше