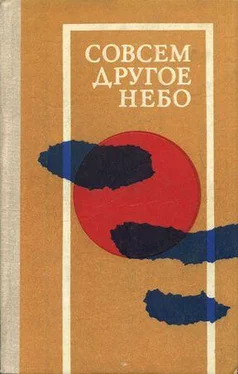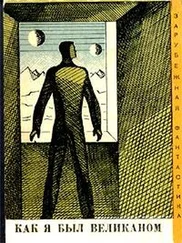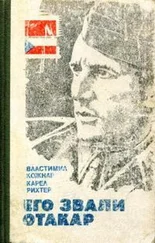Матько ушел, неся свою торбочку на сгорбленной спине, и никто не приметил, что торбочка-то уже другая, не та, с которой он пришел. Это все можно было проделать. Это можно было устроить. Она это делала не раз, закусив губу, скрепя сердце, потому что это было необходимо. «Но Михал? Михал — еще мальчик… ему пятнадцать лет… Ведь совсем недавно он бегал в длинной льняной рубашонке по двору и плакал, крича, что его «укусила» курица, и никак не хотел верить, что у курицы нет зубов».
Уршуля резко закрыла лицо руками. Мысли мои, остановитесь! Остановитесь! Уршуля Чамайова не солдат. У нее нет сил для сурового похода, для этого чудовищно тяжелого марша, который и мужик может не вынести, ибо это — война.
Остановитесь, мысли, у порога дома, который Уршуля не может оставить, потому что тогда дом утратил бы тепло и борьба потеряла бы смысл. Ей никто этого не говорил, но она это знает сама, потому что хлеб и соль этого заброшенного куска земли для сердца матери — невероятно точный и надежный компас.
Только поэтому такую жизнь можно было выносить до сих пор, и только поэтому нужно пережить и последующие дни.
Пале потихоньку начал ходить возле печки — искал что-нибудь поесть. Он знал, что это безнадежное дело, что пища у них просто так не лежит: протяни руку — и бери. Маленькая Марча многозначительно посмотрела на него, намекая, что нужно перестать ходить и сидеть молча. Но Уршуля вдруг спохватилась, встала и отрезала всем по ломтю хлеба. Остаток же аккуратно спрятала, как прячут в бедных семьях деньги или дорогой предмет.
Когда она, повернув ключ в замке шкафчика, вешала его высоко на боковой стенке, тишину дома разорвали удары в наружную дверь. Стук был такой сильный, что затрещали стены в старой халупе. Дети перестали есть и в ужасе уставились на дверь. Уршуля сделала какое-то неопределенное движение, а потом направилась к двери.
Маленькая Марча вдруг так запищала, что у Уршули мурашки побежали по спине:
— Мамочка, не ходи!
Удары сыпались градом. Дверь могла не выдержать, Уршуля вновь направилась к выходу.
— Мамочка, не ходи!
Но Уршуля пошла. Не могла же она позволить разворотить свою халупу, уничтожить крышу над головой, последний приют, который еще оставался у них, халупу, где она могла быть сама собой и где не один загнанный и отважный находил, хоть ненадолго, безопасный уголок. И пока она, еле волоча ноги, направлялась к запертой двери, ей показалось, будто она бредет на край света и никогда не дойдет — так это бесконечно далеко.
Она и в самом деле не дошла. Дверь распахнулась сама собой. Никто ее не отпирал — и вот она раскрыта настежь. Ее выломали, и треск от этого раздался по всему дому, прозвучав как испуганный вскрик. В несколько секунд комнату заполнили эсэсовцы. Последним шел Терек. Он остановился на пороге, сверля хозяйку своими колючими черными глазками, посаженными близко к переносице.
Вопросы хлынули, как ливень из прорвавшихся туп. Где сын? Где муж? А что это? Почему ты одна? С каких пор? Открой это! И это тоже! Говори, где он? Кого ты знаешь? Где и кто командир? Пароль? Кто тут был сегодня? Когда? Имя? Говори!
— Говори!
Она молчала.
— Говори!
Она сжала губы, чтобы не закричать от ужаса.
— Говори!
Они начали толкать и бить ее, чтобы придать вес своим словам. Она молчала.
— Говори!
— Не знаю. Ничего не знаю.
— Говори!
— Не знаю. — Она снова и снова повторяла одно это слово. Других она не хотела знать. Других нельзя было ей знать. — Ничего не знаю. Ничего!
Дети плакали. Все трое вцепились в ее юбку. Их руки нельзя было оторвать от нее. Никакая сила, кроме смерти, не отогнала бы их от нее. С нею они падали на пол, когда ее сбивал с ног высокий, как дерево, солдат с плохо нарисованным лицом ангела. И вставали с нею, когда она поднималась. Они — все четверо — были как скульптурная группа.
— Говори! Говори!
— Не знаю. Не знаю. Ничего не знаю. Нет, одно я знаю: вас не мать родила. Вас всех породила волчица!
— Что такое кафарит этот шенщина? — обратился их главный к Тереку, но тот вдруг оробел и не мог перевести слова Уршули. — Итак, господин Терек? Ви не понимала, что кафарить? — Эсэсовец щелкнул хлыстом по столу у окна.
Фасоль, тщательно перебранная тремя парами детских ручонок, покатилась на пол. Высокий, как дерево, солдат схватил вдруг чугун с печки и запустил им в молчавшую Уршулю. В этот момент она хотела лишь одного — чтобы руки ее стали широкими крыльями, которыми бы она смогла закрыть детей. Она ринулась навстречу летевшему чугуну, который и пустой тяжело было двигать по плите, и руками закрыла голову Марчи. Чугун ударил Уршулю в бок. Или еще куда-то? Главное, он не задел детей.
Читать дальше