Ермаков несколько минут постоял и медленно, цепляясь за каменную ограду, поплелся к площади. Неожиданно ему навстречу выбежали Шилобреев и Ахмет. Они выбрались из церквушки через тайный ход и уже рассказали танкистам о своих злоключениях.
— А Санька где? — спросил Иван, предчувствуя недоброе.
— Скончался… — печально ответил Ахмет.
Ермаков опустил голову. Ему жаль было до слез павших фронтовых друзей, с которыми делил в войну и горе и радость. Не пройдет летним утром по росистой траве Санька Терехин, не запоют больше голосистые танкисты, не увидит белых садов над тихой Шилкой мечтатель Сулико. И на приреченской улице в Ольховке вырастут уже не пять домов, как было задумано, а только три, да две березки в стороне — на память о тех, кто сложил свою голову за Большим Хинганом…
Ермаков глухо кашлянул и направился к тридцатьчетверкам, остановившимся посреди базарной площади. Увидев в траве сорванный с крыши флаг, который приколачивал вчера Терехин, приказал:
— Поднять над городом флаг!
— Есть, поднять флаг! — с готовностью ответил Ахмет и, схватив красное полотнище, полез на крышу купеческого особняка.
Подойдя к Хлобыстову, Иван толкнул его плечом, упрекнул, сам не ведая за какие провинности:
— Что же ты замешкался, машинная твоя душа?
— Будто не знаешь, Ермак Тимофеевич, — с горечью ответил тот, не подозревая даже, как вовремя и кстати перекрестил друга.
— Видишь, что получилось?
— И это после капитуляции! — возмутился Андрей.
— Прямо взбесились!
— Значит, мало били! — Хлобыстов взмахнул кулаком и с ненавистью поглядел на восток, куда скрылись японцы. — До моря будем гнать! До Порт-Артура!
Рев танковых моторов нарастал. В косых подвижных лучах двуглазых фар заходили, задвигались, будто проснувшись, мокрые серые фанзы. Около них мельтешили, подпрыгивая, голые черноголовые китайчата, суетились оборванные китайцы, махали над головами круглыми соломенными шляпами, кричали: «Вансуй, вансуй!»
Ивану хотелось сказать этим незнакомым людям добрые ответные слова, пожелать им десять тысяч лет жизни, но у него не хватало сил. Щемящая боль сжимала сердце, перехватывала горло: он навсегда потерял в этом городе не только фронтовых друзей, с которыми прошел всю войну, но еще и отца. Не того, что валялся теперь бездыханным трупом на грязной городской улице, а того, который мерещился ему в детских снах — на лихом коне, с обнаженной шашкой.
Ермаков глянул на полыхавший над крышей флаг, тихонько привалился к дрожащему борту тридцатьчетверки. У него было такое ощущение, будто он преодолел еще один, самый крутой хинганский перевал, выбрался из затхлой пропасти и вот теперь, очутившись на воле, торопливо хватал сухими губами свежий воздух, жадно глотал его крупными глотками, утоляя неуемную жажду.
Перевал позади. В город входила родная гвардейская бригада — его дом и боевая семья!
Школа колхозной молодежи.
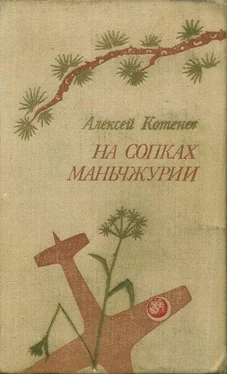






![Алексей Котенев - На Забайкальском фронте [Документальные повести, очерки]](/books/393142/aleksej-kotenev-na-zabajkalskom-fronte-dokumenta-thumb.webp)


